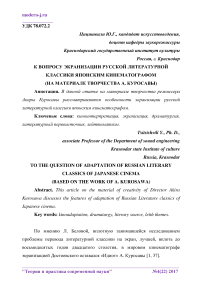К вопросу экранизации русской литературной классики японским кинематографом (на материале творчества А. Куросавы)
Автор: Цицишвили Ю.Г.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на материале творчества режиссера Акиры Куросавы рассматриваются особенности экранизации русской литературной классики японским кинематографом.
Киноинтерпретация, экранизация, драматургия, литературный первоисточник, лейттематизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140271413
IDR: 140271413
Текст научной статьи К вопросу экранизации русской литературной классики японским кинематографом (на материале творчества А. Куросавы)
По мнению Л. Беловой, вплотную занимавшейся исследованием проблемы перевода литературной классики на экран, лучшей, вплоть до восьмидесятых годов двадцатого столетия, в мировом кинематографе экранизацией Достоевского оставался «Идиот» А. Куросавы [1, 37].
"Теория и практика современной науки"
№4(22) 2017
Режиссер, которого исследователи называют одним из величайших гуманистов кинематографа, «.унаследовал у русского классика способность к открытому выражению мучительной любви и сострадания к своим персонажам» [там же, 37]. Видоизменяя сюжетные мотивировки романа (перенесение действия в послевоенную Японию, возвращение Камеды-Мышкина в родные места после пребывания в плену, сокращение времени развития действия с декабря по февраль, сокращение количества персонажей и сосредоточение действия вокруг центрального конфликта), Куросава чутко воспроизводит все оттенки и психологические нюансы произведения Достоевского, чем вызывает одобрение и похвалу советских критиков: «.Акира Куросава, ставящий “Идиота” в переводе на японские нравы и японский быт, заслуживает только нашего восхищения <.> не только потому, что он великий режиссер, способный передать дух, даже минуя букву, но отчасти и по той причине, что он японец и для него Достоевский все же не совсем тот, что он есть для нас» [7, 84].
Медиатекст, как и опера, представляет собой синтетический текст, что, по мнению искусствоведов, дает основание применять основные принципы оперной драматургии и к кинопроизведению. К таковым можно отнести применение системы лейтмотивов.
Многочисленные исследователи творчества Ф. М. Достоевского нередко называют его романы «романами идей». «”Жизнь идей” входит в сюжеты всех поздних романов писателя ... Идея в изображении Достоевского “диалогична”, процессуальна, изменчива.» [5, 146]. Рок, преступление, покаяние, надежда и т.д. - это идеи, которые являются отправной точкой конфликта, они довлеют во многих произведениях Достоевского.
Звуковая палитра киноинтерпретаций, являясь частью синтетического текста, несет на себе отпечаток первичной идеи литературного первоисточника. Поэтому неудивительно, что темы-идеи присутствуют в музыке многих киноинтерпретаций романов писателя. С драматургической точки зрения тема-идея – музыкальная лейттема, являющаяся отражением содержания, выражением, проекцией основной мысли той или иной философской категории, затрагиваемой в киноинтерпретации. Особенностью тем-идей можно назвать их относительную «статичность» в отношении развития, т.е. практически полное отсутствие преобразований как с точки зрения тематизма, так и формы.
Одной из таких тем является тема рока в японской киноинтерпретации романа «Идиот» (Япония, 1951 г., реж. А. Куросава, комп. Ф. Хаясака) , довлеющая над всей звуковой партитурой фильма. Тема рока в g-moll, звучащая уже в начальных титрах – это зерно, из которого вырастает весь музыкальный материал кинодрамы, построенный по принципу монотематизма.
Основные интонации темы рока – ползущие вверх угрюмые унисонные ходы в низком регистре с ярким японским колоритом (g-a-b-c-cis), но интонационно напоминающие «В пещере горного короля» Э. Грига, погружают зрителя в атмосферу ирреального, зловещего фатума. Национальный колорит во многом создается за счет инструментовки и тембрового решения тематического материала: в записи, наряду с инструментами симфонического оркестра, задействованы японские традиционные музыкальные инструменты. Две остановки в мелодии на IV повышенной ступени минора вносят элемент еще большего трагизма. Стоит, например, вспомнить семантическое значение IV повышенной ступени как основы «фатум-аккорда» Чайковского, являющегося лейтмотивом несчастья [10]. Мрачные звуковые линии поднимаются вверх, останавливаются на VI повышенной ступени и разрешаются в доминату (D-dur). После чего следует эпизод, построенный на основе предшествующего интонационного материала, но противоположный по эмоциональному и психологическому накалу,
выступающий
контрастом.
Здесь
очерчивается
противопоставляющаяся теме рока – тема надежды, так же являющаяся драматургической темой-идеей.
Доминанта разрешается в одноименную главной тональность: звучит G-dur в высоком регистре, сопровождаемый вокализом женских голосов, скользящим по пентатонике, создавая ощущение света и спокойствия. С развитием элементов темы надежды будет связана лирическая сторона действия и образ главного героя киноромана – Камеды-Мышкина (0:00:52).
Логичность ладо-функционального построения, преобладание тоникодоминантовой гармонической палитры, отклонения в VI ступень выступают контрастом к основной теме. Умиротворяющий мажорный эпизод недолог. Повисшая в воздухе доминантовая гармония (D-dur) прерывается «фатум-аккордом» и назойливо вторгающимся жестким первым элементом темы рока (0:01:16). Такова увертюра фильма «Идиот», звучащая на титрах, решенных в минималистическом стиле (большие белые иероглифы на черном фоне). В ней очерчиваются две контрастные темы-идеи: рока и надежды. Видимо, ввиду данной двойственности, фильм так же разделен на две части, подобно актам в театральном действе: «Любовь и страдания» и «Любовь и ненависть».
Еще один необычный режиссерский прием нашел отражение в японской киноинтерпретации – ввод поясняющих титров между некоторыми сценами фильма, сопровождающихся определенным драматургией музыкальным тематизмом. Подобная режиссерская находка с одной стороны дает отсылку к немому кинематографу, а с другой – четко обозначает функции лейттематизма, т.е. принадлежность той или иной музыкальной характеристики определённому персонажу или сфере. Так, например, в самом начале фильма титры повествуют о том, что Достоевский хотел изобразить в своем романе «положительно прекрасного человека» и выбрал для этого образ «идиота». В этот момент звучит тема надежды как музыкальная характеристика Камеды-Мышкина, совмещая в данном моменте драматургические функции темы-идеи и темы-портрета (0:03:58).
Киноинтерпретация романа «Идиот» А. Куросавы помимо авторского, довольно специфичного материала композитора Фумио Хаясаки содержит музыкальные цитаты. В фильме присутствует музыка Э. Грига «В пещере горного короля», М. Мусоргского «Ночь на Лысой горе», Т. Эванса «Испанка» и «Юбилейная песня» Э. Джолсона и С. Чаплина, русская песня «Однозвучно звенит колокольчик», «разбавляющая», сглаживающие японский колорит.
Песня на русском языке «Однозвучно звенит колокольчик» звучит за кадром в момент, когда Камеда-Мышкин впервые видит портрет Насу Таэко-Настасьи Филипповны (0:06:30). Видеоряд - нехарактерные для Японии, а скорее напоминающие русскую зиму, утопающие в снегу улицы -подчеркивает многогранность, всеобъемлемость проблемы, затрагиваемой в произведении. С другой стороны, песня одновременно символизирует и тему одиночества, и тему дороги как жизненного пути, не говоря уже о создании русского национального колорита.
«Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского сопровождает «Ледяной карнавал», на котором разгорается скандал между основными персонажами романа (1:42:50). Вихрем проносящиеся потоки людей в масках олицетворяют двойственность этого мира, наличие социальных и личностных ролей в жизни каждого человека. Здесь можно провести параллель с известной киноинтерпретацией отечественного режиссера В. Бортко, где также затрагивается тема театра в широком смысле слова.
Японская черно-белая драма Куросавы получила признание критиков, которые уловили в ней дух Достоевского, несмотря на то, что действие перенесено в 1945 год, в Японию на остров Хоккайдо, а все персонажи носят японские имена. Основные сюжетные линии сохранены практически без изменений, но главное – сохранена центральная идея романа Достоевского, поданная однако через призму национального менталитета режиссера.
В увертюре звучит доминирующая в фильме музыкальная тема – тема рока в g-moll (0:00:36), на основе которой рождаются все остальные: как например, тема надежды (в G-dur), связанная с образом Камеды-Мышкина (0:00:52). Подобно цветовой гамме фильма – черно-белым тонам, на протяжении всей картины темы сменяют друг друга, оставаясь практически в первоначальном виде. «Движение» происходит лишь ближе к концу фильма. Музыкальное оформление финала киноинтерпретации построено на развертывании элементов темы надежды, которое происходит за счет вычленения основных интонаций (g-a-h-d) и их многократного повторения практически без варьирования. Монолог Аяко-Аглаи о том, что мир был бы гораздо прекраснее, если бы каждый мог любить, как Камеда, сопровождает просветленная и развернутая тема надежды (2:45:50). Выстраивание драматургической концепции подобным образом неслучайно. Окончание действия в мажоре, а G-dur, как известно, это «…одна из чистых, “твердых тональностей”, применяемая еще со времен Баха для выражения радостного чувства», видимо, продиктовано самим японским менталитетом [6, 14].
Глубокий, компромиссный, рефлексивный, социально-зависимый, четко структурированный в формах выражения – в противоположность западному – восточный менталитет направлен на «сглаживание» углов, на гармоничное примирение противоположностей. Удивительным образом японский национальный колорит не просто не вносит дисгармонию в действие, но более того, он очень органично вписывается в известный сюжет. Куросава, будучи ярым поклонником и знатоком творчества Достоевского, поднимает в своей киноинтерпретации проблематику романа на общенациональный и общечеловеческий уровень.
Таким образом, музыкальное оформление данной киноинтерпретации построено по принципу монотематизма и монодраматургии. Концепция романа Достоевского – противопоставление фатуму «положительно прекрасного человека» воплощена в драматургии музыкальной композиции японской киноинтерпретации введением довлеющей темы рока и построенной на основе ее элементов контрастной темы надежды. Применение музыкально-выразительных средств, а также модель выстраивания драматургической конструкции во многом определена национальным аспектом киноромана.
Список литературы К вопросу экранизации русской литературной классики японским кинематографом (на материале творчества А. Куросавы)
- Белова, Л. И. Русское слово на зарубежном экране [Текст] / Л. И. Белова. - М.: Знание, 1980. - Серия «Искусство». - 3/80. - 56 с.
- Беляев, В. С., Мачарет, А. В. Книга спорит с фильмом [Текст] / В. С. Беляев, А. В. Мачарет. - М.: Искусство, 1973. - 264 с.
- Гозенпуд, А. А. Достоевский и музыкально-театральное искусство [Текст] / А. А. Гозенпуд. - Л.: Советский композитор, 1981. - 224 с.
- Гроссман, Л. П. Поэтика Достоевского [Текст] / Л. П. Гроссман. - М.: Государственная Академия Художественных Наук, 1925. - 190 с.
- Захаров, В. Н. Система жанров Достоевского (типология и поэтика) [Текст] / В. Н. Захаров. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. - 208 с.
- Носина, В. Б. Скрытые смыслы музыки И.С. Баха [Текст] / В. Б. Носина // Играем с начала. - 2012. - № 5 (99). - 24 с.
- Рассадин, С. Б. С согласия автора. Об экранизациях отечественной классики [Текст] / С. Б. Рассадин. - М.: Киноцентр, 1989. - 126 с.
- Сальвестрони, С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского [Текст] / С. Сальвестрони / пер. с ит. - СПб.: Академический проект, 2001. - 187 с.
- Селицкий, А. Я., Демина, И. К. Основы музыкальной драматургии [Текст] / А. Я. Селицкий, И. К. Демина. - Ростов н/Д.: Издательство РГК им. С.В. Рахманинова, 2008. - 72 с.
- Цуккерман В. А. Выразительные средства лирики Чайковского [Текст] / В. А. Цуккерман. - М.: Музыка, 1971. - 245 с.