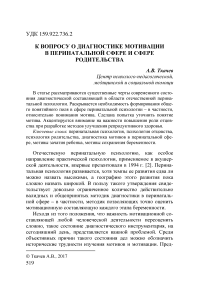К вопросу о диагностике мотивации в перинатальной сфере и сфере родительства
Автор: Ткачев А.В.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются существенные черты современного состояния диагностической составляющей в области отечественной перинатальной психологии. Раскрывается необходимость формирования общего понятийного поля в сфере перинатальной психологии - в частности, относительно понимания мотива. Сделана попытка уточнить понятие мотива. Акцентируется внимание на важности повышения роли отцовства при разработке методов улучшения репродуктивного здоровья.
Перинатальная психология, мотивы зачатия ребенка, мотивы сохранения беременности
Короткий адрес: https://sciup.org/147228510
IDR: 147228510 | УДК: 159.922.736.2
Текст научной статьи К вопросу о диагностике мотивации в перинатальной сфере и сфере родительства
Отечественую перинатальную психологию, как особое направление практической психологии, применяемое в акушерской деятельности, впервые презентовали в 1994 г. [2]. Перинатальная психология развивается, хотя темпы ее развития едва ли можно назвать высокими, а географию этого развития пока сложно назвать широкой. В пользу такого утверждения свидетельствует довольно ограниченное количество действительно валидных и общепринятых методик диагностики в перинатальной сфере – в частности, методик позволяющих точно оценить мотивационную составляющую каждого этапа беременности.
Исходя из того положения, что важность мотивационной составляющей любой человеческой деятельности переоценить сложно, такое состояние диагностического инструментария, на сегодняшний день, представляется важной проблемой. Среди объективных причин такого состояния дел можно обозначить исторические трудности изучения мотивов и мотивации. Пред-
варительный анализ этих этих затруднений будет проведен ниже. Здесь мы лишь оговоримся, что среди трудностей можно выделить наличие огромного количества определений мотивации, существующих на сегодня и отличающихся иногда весьма значительно. Возможно, такое положение дел может быть связано именно с неоднозначностью эмпирического обоснования понятий мотива и мотивации.
Среди применяемых сегодня методик диагностики мотивации в перинатальной сфере и в сфере родительства, позволяющих сформировать представление о некоторых мотивах беременной, можно выделить рисуночные тесты и интервью Г.Г. Филипповой и тест отношений беременной И.В. Добрякова. Если говорить узко о мотивах сохранения беременности, то, разумеется, это методика Л.Н. Рабовалюк [7]. О последней методике, почти единственной, направленной именно на выявление мотивов, будет сказано ниже. Здесь лишь оговоримся, что, что, при всей объемности и структурированности, даже эта методика оставляет некоторые сомнения в своем соответствии современным требованиям.
Из названых методик, тест отношений беременной достаточно точно описывает психологические особенности беременной, близкие к пониманию мотивации. Бесспорно, что определение типов психологической компоненты гестационной доминанты производится исходя, в том числе, из определения мотивов. Однако ни о какой конкретизации изучаемых мотивов речи здесь не идет.
Так же нет конкретизации понимания мотивов в проективных, рисуночных тестах и структурированных интервью Г.Г. Филипповой. Вероятней всего, применяя данные диагностические инструменты, можно выйти и на определение мотивов, но для выявления последних, методики нуждаются в целенаправленной методологической доработке.
И мотив, и родительство слишком неоднозначные и, на взгляд автора, недостаточно глубоко понимаемые феномены как в сегодняшней отечественной психологии в целом, так и в перинатальной психологии в частности. Поэтому представляются неизбежными неоднократные отступления в ходе нашего изложения для прояснения ряда существенных моментов. Во всяком случае, начать обозначение путей решений поставленной проблемы сто520
ит с определения мотива, считая бесспорным тот тезис, что проблема мотивации является одной из ключевых проблем в психологии вообще.
Начать разговор об определении мотивации представляется правильным с работы И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», вышедшей в свет в 1863 г. В этой работе И.М. Сеченов утверждает и отстаивает ту точку зрения, что единственная причина совершаемых человеком действий любого сорта – потребность, объективная нужда, в таковых действиях, буквально – в мышечных сокращениях. «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению» [9]. Таков взгляд физиолога, ставшего, во многом, ученым, заложившим фундамент современной психологии. В современных классификациях, самая близкая к сеченовскому пониманию – группа витальных потребностей (они же биологические, или органические). Другой подход к мотивации А.Г. Асмолова: мотивация – приобретаемое предметом (курсив наш) системное качество, проявляющееся в его способности побуждать и направлять деятельность [4]. Здесь обратимся к сегодняшней практике.
Теперь обратимся к практике сегодняшнкго дня. Одной из наиболее признанных и широко используемых методик для определения истинных мотивов сохранения беременности является «Методика исследования мотивов сохранения беременности» (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк [7]. Она содержит 78 утверждений, объединенных в 10 блоков, в которых представлены как конструктивные, так и деструктивные мотивы сохранения беременности. Блоки описывают следующие психологические особенности беременной, связанные с гестацией:
-
1. Насколько беременность желанна и ожидаема.
-
2. Субъективное отношение к материальным (финансовым) затруднениям.
-
3. Истинное стремление быть матерью (психофизиологическая готовность к материнству).
-
4. Субъективные ощущения ограничения свободы, эгоистических тенденций личности; приоритеты ценности ребенка.
-
5. Озабоченность собственным здоровьем; негативно-
- обвиняющий стиль переживания беременности.
-
6. Высокая степень тревожности к материнству, пессимистический настрой.
-
7. Стремление беременной соответствовать социальным ожиданиям.
-
8. Желание иметь ребенка, который воплотит нереализованные планы, мечты и желания матери.
-
9. Сохранение беременности как способ сохранения отношений и удержания супруга в браке.
-
10. Страхи и компенсации беременной.
Практически все блоки, кроме третьего, направлены на описание деструктивных мотивов беременности. Плюс такого содержания методики мы видим в доскональном изучении проблемных «точек», требующих приложения усилий психолога, коррекции. Возможный минус – в несколько тенденциозном сосредоточении внимания беременной, при прохождении данной методики, на всех сторонах возможного негатива, связанного с гестацией, что может сказаться не лучшим образом на состоянии гестационной и родовой доминант.
Еще одна особенность методики плохо коррелирует со «сложностью» понимания роли отцовства при влиянии на мотивы и доминанты беременности и родов. Из десяти утверждений третьего блока лишь одно явно подразумевает присутствие отца в формировании описываемого мотива: «Мы с супругом любим друг друга и хотим иметь общего ребенка». Еще два пункта допускают ориентацию на супруга при формулировании ответа: «Особенная любовь развивается между родителем и ребенком» и «Хочу ощутить радость материнства». Остальные семь утверждений, даже если условно счесть их все конструктивными, присутствия отца не подразумевают даже в контексте: «Получаю удовольствие, когда наблюдаю за тем, как ребенок растет» или «В доме весело, когда есть дети».
Вместе с тем, практика консультирования дает основания предполагать, что конструктивность мотивов сохранения беременности и особенностей протекания последней во многом целесообразно рассматривать именно с позиции особенностей пары. Встречаются пары, прожившие после счастливого разрешения беременности 10 лет и больше «душа в душу», в которых муж на этапе беременности не принимал активного участия в формиро-522
вании мотива сохранения беременности и беременную это ни мало «не смущало». А иные пары пришли к разного рода осложнениям протекающей беременности и собственно отношений между партнерами именно на фоне индифферентного отношения мужчины к некоторым аспектам беременности. Из таких фактов необходимо следует желательность появления методик, выявляющих мотивы сохранения беременности именно у пары, но не отдельно у беременной. И это является первой сложностью и неточностью, существующей сегодня в практике определения истинных мотивов перинатальной сферы.
Второй сложностью нам представляется определение самого понятия мотива в данном аспекте. В отечественной современной психологии Д.А. Леонтьев в своих последовательных работах по анализу взглядов А.Н. Леонтьева на мотивацию (природа потребностей, полимотивация деятельности, функции мотива, истоки различения внутренней и внешней мотивации) раскрывает очень широкие горизонты понятия мотива. Теоретическая значимость такого рода исследований имеет огромное значение. Однако, применить описанную концепцию, как и многие другие современные подходы, на практике, при оказании психологической помощи беременной, или женщине в состоянии репродуктивного выбора, или доабортном консультировании мужчины, представляется делом довольно непростым. И непростым, прежде всего, по причине рассредоточения, размывания понимания мотива. Попробуем определить, что же нам следует подразумевать под мотивом именно в рамках перинатальной психологии.
С позиций сравнительно-психологического подхода К.Э. Фабри считал, что психика высших животных по функциональному, условно, количественному, составу не отличается от «психики» низших животных. И у тех и у других есть нервная система (пусть, у простейших, de facto, нет даже зачатков ее, разве с пометкой «в proto-виде») и есть механизмы, ею управляемые, позволяющие организму адаптироваться к окружающей среде, сиречь, удовлетворять потребности. Другое дело, что качество таковых механизмов (если просто – сложность их) различаются, скажем, у одноклеточного и у человека (отрицательный ортотермотаксис и движения скульптора), как небо и земля. Раздражимость, чувствительность, сенсибилизация, готовность к 523
научению и далее до бесконечности – это процесс усложнения, эволюции психики и процесс не совсем линейный. Некоторая, поясняющая последнее положение, ремарка, об определенном этапе эволюции некоторой локальной области психики, когда может происходить даже смена полюсов. По мнению Ч. Дарвина, по интеллекту человекообразная обезьяна и человек отличаются только количественно, но не качественно.
Однако, держа в уме данные сравнительной психологии, рассматривая мотивацию человека здесь даже в крайне редуцированном состоянии, необходимо понимать, что человек – это даже не просто личность; по В.С. Мерлину, человек есть интегральная индивидуальность [6] и удовлетворение наших потребностей происходит с применением аппарата (психического), возможно, максимально сложного из всех, какие можно представить.
Обратимся еще раз к статье Д.А. Леонтьева. «Изменение смысла действия есть всегда отношение к его мотивации» [4]. Рассуждения ученого о различении внешней и внутренней мотивации и, особенно, о сущности соотношения мотива и смыс-лообразования приводят к пониманию, что мотив и смысл, в деятельности человека, не просто где-то рядом лежащие понятия. Возможно, в рамках описанного выше семантического поля, мотив представляется как некий телесный субстрат смысла, как знать.
Чтобы последняя мысль стала более приемлемой для читателя, обратимся к мнению С.Л. Рубинштейна: «…потребности человека являются исходными побуждениями его к деятельности: благодаря им и в них он выступает как активное существо» [8]. Там же: «Будучи выражением органической потребности, влечение имеет соматический источник; оно происходит от раздражения, идущего изнутри организма».
А.Н. Леонтьев в одной из главных своих работ, относил потребности и влечения к «мотивирующим факторам» [3]. «Подобно тому, как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносится с понятием действия» [3]. «…действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. Допустим, что деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее 524
мотив» [3]. Пока заметим лишь, что утверждение колосса, что предмет (пища) является мотивом, хочется видеть легкой неточностью (лишь в рамках дефиниции мотива в данной статье, разумеется).
У Б.М. Теплова находим следующую мысль: «Мотивы - это то, что побуждает человека (курсив наш) к постановке тех или других целей» [10]. Мотив, в этой плоскости, есть не что иное, как направляющий вектор между потребностью и целью, способной ее удовлетворить, что, пожалуй, уже верно до бесспорности. При удовлетворении потребности в пище, целью могут выступать как пельмени, так и яичница; и лишь конкретный мотив определяет направление деятельности по удовлетворению потребности в каждом конкретном случае.
Одним из тех отечественных ученых-психологов, который часто изъяснялся эпистемами (в том смысле, что используется в риторике), был В.С. Мерлин. В своих работах он, разделяя побуждения к действию на внутренние и внешние, справедливо, как представляется автору, называл чаще внешние побуждения стимулами и лишь некоторые из внутренних - мотивами. Например, алкоголь, воздействуя изнутри, может стать причиной драки, но не может быть назван мотивом. Переутомление, так же, навряд ли, может явиться истинным мотивом. Неэмоциональных мотивов не бывает, но сама эмоция - это еще далеко не мотив, но лишь «вешка мотива».
«Психологическое своеобразие действий определяется их приспособительной функцией в жизни человека и животных» [5]. Есть две формы приспособления - реактивная (отдергивание руки от горячего или выделение пота при жаре) и активная (любое изменение условий среды «под себя»). Отличие человека от животных - его действия, в главном и основном, определяются сознательными целями. Целенаправленный характер действий отметает стимул из числа причин действия: взятый сам по себе, в отдельности, стимул не может определять целенаправленности, он лишь вынуждает реакцию - бежать при установлении факта беременности. А вот бежать в операционную или к мужу, с радостным известием, этого стимул не определяет.
В.С. Мерлин предлагает понимать под мотивом «психологические причины, определяющие целенаправленные действия 525
человека» [5, с. 22]. Целенаправленное изменение среды предполагает состояние нужды, когда «чего-то не хватает для жизни и развития человека», когда есть неудовлетворение, эмоциональное страдание. Вместе с осознанием всех этих элементов и появляется подлинный мотив целенаправленных действий. Именно такую нужду В.С. Мерлин предлагает называть потребностью. «В этом и только в этом смысле всякий мотив есть потребность» [5]. И, возможно, в наших размышлениях, мы подошли очень близко к пониманию потребности Сеченовым; на этом в рамках данной работы мы остановимся и утвердимся.
Если под мотивом сохранения беременности понимать психологические причины, задающие направление на некоторую цель, или цели, то для определения конструктивных мотивов остается необходимым определить таковые цели и всю работу по коррекции психического состояния беременной направить на их достижение. Ценности и смыслы бесспорно и непременно лежат в основе таких психологических причин. Но ценности и смыслы относятся, скорее, к стратегической и тактической области управления, говоря языком менеджмента; и хороши, скорее, на этапе профилактических мероприятий: формирования готовности к созданию семьи, к родительству, к зачатию ребенка. Консультационная и коррекционная работа на этапе работы с беременной строится, как правило, в поле оперативной деятельности (язык менеджмента), на слоях психики, лежащих несколько выше ценностной иерархии.
Изучение литературы позволило сформировать последовательность некоторых ключевых этапов, позволяющих отслеживать мотивы перинатальной сферы и с тем, отношение женщины к собственной беременности. Среди мотивов перинатальной сферы, в литературе обычно рассматриваются два феномена: мотив зачатия и мотив сохранения беременности. Однако даже если остановиться на этих двух мотивах, можно заметить, что их проявление может носить не только рациональный характер, но и, например, эмоциональный. Среди этапов, позволяющих лучше понимать состояние мотивационной сферы беременной, можно выделить следующие.
Мотивы зачатия ребенка, как таковые; когнитивная сторона. В нашем представлении, конструктивными здесь можно счи-526
тать следующие посылы. Ребенок как ценность, как новая жизнь; как субъект, начиная с этапа планирования беременности; как ожидаемый член семьи, способный развить, вывести на новый этап, семью как общность и каждого из членов семьи, как личность. Как источник и объект любви. Здесь имеет особое значение ценностный уровень, на котором располагается ребенок в иерархии ценностно-смысловой сферы матери и отца.
Степень положительности эмоционального отклика на беременность. Именно эмоциональный отклик наиболее точно характеризует желанность беременности; текущее состояние и потенциал готовности к родительству, и материнству и отцовству.
Эмоциональное и содержательное отношение к первому шевелению. Испытываемые беременной спокойные радость и нежность способны характеризовать и весь спектр показателей предыдущего этапа в динамике, и являться индикатором оптимального состояния семейных отношений, и служить положительным фактором при приближении к следующему этапу – родам.
Отношение к родам, на этапе приближения к ним. Сугубо радостные эмоции на данном этапе, скорее всего, не могут характеризовать оптимальное состояние беременной. Узко положительные эмоции здесь могут служить, скорее, показателем эйфорического стиля переживания беременности и отношения к родам. Состояния страха, паники и кошмара, отвержение, желание поскорее избавиться от бремени – это другой край формирования доминанты родов, куда более нежелательный. Однако элементы тревоги или растерянности, вероятно, таки должны здесь присутствовать, если мы говорим об оптимальном стиле переживания беременности и родов.
«Управлять действиями человека, в отличие от действий машины, можно только посредством управления мотивами» [5, с. 19]. Если продолжать доверять Вольфу Соломоновичу, то точное определение истинных мотивов перинатальной сферы представляется нам единственным источником истинного понимания и планирования психокоррекционной работы с беременной на любом этапе. И, чем более истинным является таковое понимание, тем эффективней может быть выстроена коррекционная работа с беременной. В свою очередь, таковая 527
истинность начинается непосредственно с точного формулирования понятия мотива в перинатальной сфере. Ибо, лишь в едином понятийном поле возможна истинная унификация и стандартизация психокоррекционной работы. В данной статье предпринята попытка размышлений на эту тему.
И.В. Добряков в своих работах и выступлениях, не устает ставить акцент на важности работы с женщиной и ребенком в постнатальном периоде с позиции состояния и содержательных характеристик супружеского холона [1]. Совершенно невозможным представляется оказание помощи отдельно новорожденному ребенку или отдельно недавно родившей женщине, им можно помочь только понимая происходящее в диаде «мать– дитя». Одна из составляющих диады – мать. И состояние ее психики, а с ней и сомы, в свою очередь, необходимо зависит от состояния ее отношений с отцом ребенка. Недооценка этого факта и, как следствие, отсутствие теоретической и методологической базы для аргументированного привлечения отца к активному участию в психокоррекционных мероприятиях, является, с нашей точки зрения, основным камнем преткновения к оптимизации репродуктивного здоровья на сегодняшний день. И первым этапом на этом пути нам представляется разработка методологической базы для диагностики мотивов в перинатальной сфере, с акцентом не только на состояние матери, но на состояние супружеского холона, с возвышением уровня значимости отцовства в сфере репродуктивного здоровья.
Таким образом, становится очевидным, что диагностика мотивации в перинатальной сфере требует своего целенаправленного и широкого развития. Для нас очевидно и то, что такой диагностический инструментарий необходимо разрабатывать с учетом положений о диаде «мать–дитя» и о супружеском холоне.
272 с.
изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1949. 216 с.
Список литературы К вопросу о диагностике мотивации в перинатальной сфере и сфере родительства
- Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2010. 272 с.
- Коваленко Н.П. Десять лет развития перинатальной психологии в России // Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы. 2010. № 1. С. 56-59.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл. Академия, 2005. 352 с.
- Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотиваци // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. № 2. С. 3-18.
- Мерлин В.С. Лекции по пихологии мотивов человека. Сборник задач по общей психологии // Собрание сочинений. Пермь: ПСИ, 2008. Т. 5. 332 с.
- Мерлин В.С. Очерк интегральной индивидуальности. М.: Педагогика, 1986. 448 с.
- Рабовалюк Л.Н. Методика исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) // Молодой ученый. 2012. № 6(41). С. 350355.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2013. 713 с.
- Сеченов И.М. Элементы мысли. СПб.: Питер, 2001. 416 с.
- Теплов Б.М. Психология: учеб. для ср. школы. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1949. 216 с.