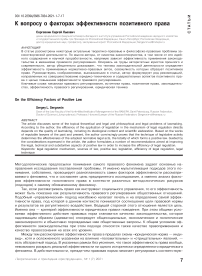К вопросу о факторах эффективности позитивного права
Автор: Сергевнин С.Л.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (7), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены некоторые актуальные теоретико-правовые и философско-правовые проблемы законотворческой деятельности. По мысли автора, от качества законотворчества, в том числе от его идейного содержания и научной проработанности, напрямую зависит эффективность применения законодательства в механизме правового регулирования. Опираясь на труды авторитетных юристов прошлого и современности, автор убедительно доказывает, что техника законодательной деятельности определяет эффективность принимаемых нормативно-правовых актов, совокупность которых образует позитивное право. Руководствуясь соображениями, высказанными в статье, автор формулирует ряд рекомендаций, направленных на совершенствование юридико-технических и содержательных аспектов позитивного права с целью повышения эффективности правового регулирования.
Механизм правового регулирования, источники права, позитивное право, законодательство, эффективность правового регулирования, юридическая техника
Короткий адрес: https://sciup.org/14121109
IDR: 14121109 | DOI: 10.22394/2686-7834-2021-1-7-17
Текст научной статьи К вопросу о факторах эффективности позитивного права
Методологические предпосылки понимания самого правового феномена задают основные направления исследования поставленной проблемы. И именно мультипликация подходов этого понимания, собственно, провоцирует разноплановость самих факторов эффективности рассматриваемого феномена, что и составляет цель предпринятого исследования, а именно анализ факторов эффективности позитивного права в контексте различных методологических ракурсов (подходов) к самому обозначенному феномену.
Так, если рассматривать право как инструмент социального управления, то его эффективность может быть показана как результативность правового регулирования общественных отношений. Подобный «управленческий» подход неизбежно налагает печать и на определение самой эффективности права, под которой в данном контексте понимается соотношение цели правовой нормы и результатов ее регулятивного воздействия. Ведущей стороной этого отношения является цель. Именно она — критерий эффективности юридических правил поведения. При этом общими условиями эффективного действия правовых норм становится качество законодательства, которое надлежащим образом (адекватно) опосредует общесоциальные, экономические и политические закономерности и объективно порождаемые ими общественные запросы. К общим условиям эффективности законодательства при этом подходе относятся также качество правоприменения и качество правосознания на всех его уровнях.
Между тем рассмотрение эффективности права в пределах схемы «юридическая норма — индивид», хотя и осложненного указанием на влияние «положительных» и «отрицательных» явлений, — есть абстрактный подход. В указанных рамках без уяснения, что такое эффективность права вообще, невозможно раскрыть реальной эффективности ни одного исторически определенного юридического феномена. В действительности, прежде чем правовая норма начинает регулировать соответствую-
СТАТЬИ
щие общественные отношения в контексте поведения людей, она сама обусловлена конкретными общественными отношениями. Они, а не абстрактные «положительные» и «отрицательные» условия, определяют конкретное содержание норм и их действенность. С другой стороны, социологическая формула «поведение индивида — функция взаимодействия его социальных позиций» заставляет переместить юридическую норму из центра схемы на место одного из условий, которые вместе с объективными (в первую очередь социально-экономическими) факторами влияют на человеческие поступки. По этой причине названный перечень общих юридических условий эффективности правовой нормы должен быть существенно расширен за счет включения в него социальных факторов и установления иерархии в их взаимодействии. Только при таких условиях исследование может избавиться от своего формального характера, став социально содержательным.
Иной подход предполагает анализ эффективности правовых институтов, ориентированный на поведенческий опыт индивида как критерий эффективности любых факторов (в том числе и юридических норм), на эти акты воздействующих. Чем лучше юридическая норма усваивается индивидом, чем глубже она проникает в структуру личности, трансформируется в ее установки, тем в большей мере поступки людей соответствуют правовым требованиям и тем, стало быть, эффективнее нормативный акт.
При том исходном условии, присущем обоим подходам, что эффективность права обусловлена множеством факторов, без их систематизации невозможно установить их роль в действенности изучаемого нормативного акта. Но тогда на первый план выдвигается системный подход.
При этом изучение эффективности, в частности, законодательной деятельности обусловлено всей совокупностью социокультурных, экономических, политических и иных факторов, действующих не только на уровне отдельного правопорядка, но и глобального правового контекста в целом. При таких условиях эффективность права становится интегративным итогом взаимодействия столь большого числа переменных, что ее количественные оценки сегодня вряд ли возможны даже в случае использования самой современной компьютерной техники.
Тем не менее совершенно очевидно, что в современной науке на первый план выдвигается тип теоретического познания, предполагающий изучение общественных явлений в качестве сложных органических систем. Это не означает, что исследование эффективности права в его относительно самостоятельном существовании перестает иметь значение. Оно по-прежнему актуально для непосредственной юридической практики и поэтому должно являться предметом специального анализа прежде всего силами отраслевых наук. Между тем соединение категорий легитимности права и его эффективности возможно лишь на уровне юридической метатеории.
Применение системного анализа в любой области знания — дело отнюдь не простое, несмотря на кажущуюся доступность и ясность абстрактных принципов, которыми следует при этом руководствоваться и раскрытию которых посвящено большое количество публикаций философского характера. Может быть, это и объясняет, почему предпринятые попытки применения системных представлений в правовой науке, получив известное распространение в 70–80-е гг. прошлого столетия, в настоящее время практически не используются. Во всяком случае мы должны признать, что полученные результаты все еще не соответствуют тем потенциальным возможностям, на которые можно было бы рассчитывать.
Тем не менее применение системного анализа для решения многих проблем юриспруденции и, в частности, проблемы эффективности права — необходимость, обусловленная особенностями ее предмета исследования. В первую очередь это относится к изучению эффективности правовых норм. Его цель состоит в том, чтобы выяснить, как правовые предписания действуют в общественной жизни. Следовательно, предметом анализа при изучении эффективности юридических правил поведения является не только само по себе правило, не только правомерное или неправомерное поведение индивидов, не только деятельность юридических учреждений, не только общество как чистый объект социологической теории, а взаимодействие всех этих объектов и его результаты. Таким образом, возникает многообъектность, полисистемность предмета исследования, а вслед за тем и соответствующий ему анализ вынужденно приобретает черты полисистемного характера.
Указанное обстоятельство означает, что теоретическое исследование проблем эффективности правовых норм, т. е. исследование с точки зрения общей теории права, должно преодолеть «пред-метоцентризм» и выйти на изучение действенности юридических норм во взаимодействии с социальными факторами, действующими в настоящее время в соответствующем государстве и его правовой системе в целом, и на уровне соответствующего общества, в котором функционируют общесоциальные факторы. Кроме того, подлежит преодолению и предметоцентризм, по необходимости присущий отраслевым юридическим дисциплинам, при этом следует осуществить переход от «системоцентризма» теории права как общей правовой теории к полисистемности теории социально-правового характера, чей предмет отличается многообъектностью и сам входит в систему более высокого уровня — систему общества как целого. Оно в конечном счете и определяет все системные свойства отдельных социальных явлений (в частности, правовых норм).
СТАТЬИ
Итак, главное требование, которому должно отвечать исследование эффективности правовых норм в контексте легитимности права, — это осуществление его в рамках более широкой социальной системы, т. е. при необходимом применении на всех этапах системного подхода. Рассмотрим, что на деле должно означать осуществление данного подхода в рамках теоретико-правового исследования.
Системный анализ методологически предполагает рассмотрение одного и того же явления в двух качественных аспектах — с точки зрения его качественной природы и с точки зрения его качественной специфики. Вначале определяются его функциональные и структурные качества, а затем — его конкретно-исторические системные свойства. При этом в первом случае явление берется само по себе, в своих наиболее общих и абстрактных моментах, а во втором — как элемент или компонент данной системы, как системное явление.
Юридическая наука, как правило, различает эти два уровня рассмотрения правовой действительности. Однако их дифференциация при анализе позитивного права в целом и последующий синтез осуществляются все еще недостаточно последовательно. Так, рассматривая проблему механизма действия права, юриспруденция обращается преимущественно к тем его свойствам, которые могут быть охарактеризованы как качественная природа. Анализ в данном случае осуществляется лишь на одном уровне функционирования права — на уровне его воздействия на конкретных людей, их поведение. Этот срез исследования ограничен в основном рамками отношения «право — индивид», «право и его субъекты». Напротив, обращаясь к процессам генезиса, историческим судьбам права вообще и правовых систем определенного типа, основное внимание уделяется взаимодействию права и общества в целом. Здесь предпочтение отдается качественной специфике права, его общесистемным свойствам1.
Между тем совершенно очевидно, что и в том и в другом случае речь должна идти о праве как целостном социальном феномене, проявляющем в полной мере на каждом уровне своего существования обе рассмотренные характеристики его качественной структуры одновременно. При этом первый уровень должен раскрыть всеобщие характеристики права и его эффективность как такового, а второй — его конкретно-исторические модификации, в том числе и соответствующий срез его эффективности. Только в таком анализе возможно понять право и его функционирование как конкретно-историческое общественное явление, только это и есть действительное применение социального подхода к его изучению и как таковое есть предпосылка формирования научных критериев его легитимности.
Таким образом, конкретно-исторический (или социальный) подход уже в силу своей целевой установки предполагает изучение и сопоставление двух аспектов качественной определенности — качественной природы и качественной специфики — правовых явлений (право — индивид, общество — право). При этом специфическое может быть понято только в рамках общих законов функционирования права, лишь в силу их реализации через закономерности конкретной социальной системы, существующей реально на разных уровнях. Специфическое качество обладает той особенностью, что оно подчиняет своему воздействию качественную природу. Последняя может проявляться только специфическим образом, т. е. может существовать только в образе конкретноисторической модификации и никак иначе. Особенности же конкретной общественной обстановки нередко актуализируют какую-либо одну из них, вследствие чего она и подвергается преимущественному анализу в различные исторические периоды, на разных уровнях. Поэтому это не исключает, а, наоборот, предполагает раздельное рассмотрение этих качественных определенностей применительно ко всему явлению в целом.
В юридической науке, с нашей точки зрения, длительное время явное предпочтение отдается исследованию специально-юридического аспекта действия права, т. е. рассмотрению его качественной природы. И это, как уже говорилось, до известных пределов правильно. Не следует только при этом забывать, что так называемые «всеобщие условия» не должны заслонять собой конкретно-исторические, социальные, юридические, территориальные особенности. Это, помимо прочего, означает, что методической предпосылкой анализа проблемы должно являться изучение специфических условий конкретной общественноисторической эпохи, конкретного общества. При
СТАТЬИ
таком подходе право предстает в качестве одного из моментов социальной системы, который не имеет изолированного отдельного существования, определяется системными свойствами. Именно общественная система обусловливает во всех составляющих ее элементах их социальную природу и особенности, которые позволяют отнести их к исторически определенному социальному целому.
Здесь эффективность правовой нормы, если учитывать ее включенность во всю совокупность социальных переменных данной системы, есть системный эффект, результат функционирования социальной системы в целом. Поэтому конкретно-исторические основания права не являются чисто внешними и для изучения его эффективности. Без них оказывается невозможным во всем объеме разрешить вопрос о целях, назначении, сущности правовой системы и ее отдельных элементов, ибо все они имеют социальную природу и заданы обществом в целом. Следовательно, вне конкретно-исторических условий нельзя судить и о тех результатах, к которым привели нормативные предписания. Более того, вне конкретно-исторических условий нельзя судить и о самой легитимности права.
Итак, признание права социальным феноменом не следует ограничивать только фактом его происхождения из общества и считать, что после этого оно, оторвавшись от своего источника — социального целого, начинает существовать и функционировать, быть эффективным или неэффективным, самостоятельно или относительно обособленно.
Процесс социальной обусловленности права не завершается в акте его генезиса. Право непрерывно «порождается» обществом. В ходе его исторического развития постоянно изменяется и само право. При этом важно отметить, что процесс изменения социальной природы права, его содержания и общественных функций отнюдь не обязательно сопровождается изменениями формы его выражения, в том числе словесных выражений формулировок закона. Последние часто совпадают даже в различных общественных формациях. Например, уголовно-правовой запрет, нормы договорного права и т. д., совпадая во многом с точки зрения их лингвистических формулировок, имеют в историческом срезе различный, зачастую противоположный социальный смысл. Следовательно, социальный подход, который равнозначен в данном случае системному, должен пониматься шире и стать методом не только общей теории права, в которой он в настоящее время развивается специально, но и отраслевых дисциплин. Особое значение социально-структурный (социологический) подход приобретает в сфере конституционного права и, что крайне важно подчеркнуть, в контексте процесса конституционализации отраслей национальной правовой системы2.
Для выяснения и более углубленного понимания иерархических отношений между разными общественными, внутрисистемными явлениями иногда прибегают к рассмотрению их как частных случаев субъект-объектного отношения. Такие возможности имеются и тогда, когда речь идет о соотношении права и других социальных институтов.
Так, в соответствии с двумя важнейшими аспектами качественной определенности права (специфического и функционального) его действие можно рассматривать также на двух уровнях как два взаимосвязанных субъект-объектных отношения: «общество — право» и «право — индивид». При этом первое из них должно в большей мере характеризовать специфические качества действия права, а второе, соответственно, функциональные.
С философских позиций выделяются несколько моментов, делающих рассмотрение указанных пар отношений особенно интересным с точки зрения реализации социального подхода в исследовании проблемы эффективности права.
Во-первых, субъект-объектное отношение имеет явно выраженный исторический характер, что позволяет глубже уяснить специфические особенности функционирования права.
Во-вторых, в нем всегда проявляется оппозиционная соотносимость категорий «субъект» и «объект», посредством которой они взаимно определяют друг друга. Благодаря этому обстоятельству легче раскрывается источник самодвижения данного отношения, в нашем случае — развития права, и, что особенно важно, в пределах одного общественно-исторического типа.
Отсюда, в-третьих, следует, что стороны данного отношения не имеют фиксированной при-крепленности к определенным явлениям так, чтобы можно было сказать: «право всегда субъект», а «общество всегда объект». Одно и то же явление в развивающемся отношении может быть и субъектом и объектом. Роль сторон в исследуемом отношении всегда исторически изменчива. Еще Гегель отмечал, что «...превратно рассматривать субъективность и объективность как некую научную и абстрактную противоположность. Обе вполне диалектичны»3. Общество определяет право, его содержание и функции, и в этом смысле правовая система — объект по отношению к системе социальной. Право воздействует на общественные отношения и регулирует их, и в этом смысле оно субъект по отношению к обществу — объекту.
СТАТЬИ
При этом следует иметь в виду, что стороны отношения «общество — право» активны в разной степени. В определенных исторических условиях право становится настолько активной силой, что превращается в субъекта, который способен преобразовать объект (общественные отношения) сообразно своим основополагающим свойствам. Такое положение имеет место тогда, когда общественное содержание правовых форм в концентрированном виде начинает выражать сущность всей социально-экономической системы, их действие совпадает по своей направленности с действием объективных законов развития данной системы. Этим совпадением и объясняется столь высокая эффективность права в подобных исторических ситуациях, которая находится в прямой связи с характеристиками его легитимности.
Со своей стороны, отношение «право — индивид» является лишь специфическим проявлением отношения «общество — индивид». Взаимодействие права и индивида всегда осуществляется в рамках субъект-объектного отношения, где общество-субъект представлено одним из важнейших своих институтов — правом. При этом социология права подчеркивает, что и в случае прямого соприкосновения индивида с правовым предписанием его поступки обусловлены в первую очередь не правом как таковым, а совокупностью социальных условий, в которых он находится, и его социальным статусом. Право — только один из компонентов всего комплекса воздействующих на индивида сил.
Логика научного анализа диктует далее переход от общетеоретических размышлений относительно факторов эффективности права вообще в качестве особого сложного социального феномена к исследованию факторов эффективности законодательной деятельности и ее результата — законодательной системы.
Эффективность законов (законодательства) может быть исследована лишь постольку, поскольку проанализирована проблема эффективности процесса подготовки и принятия законов. Иными словами, эффективность законодательства в существенной мере зависит от законотворческого процесса. Исходя из этого обстоятельства, рассмотрение факторов эффективности законов представляется обоснованным начать с изучения процесса их подготовки и принятия.
Законодательный процесс представляет собой разновидность юридического процесса, и ему свойственны все характерные черты последнего.
Юридический процесс, в свою очередь, представляет собой единство материальной (фактической) и познавательной (информационной) деятельности, а также норм, регламентирующих эту деятельность. При этом между ними нет и не может быть тождества, хотя стремиться к нему можно и нужно. Так, в содержательном (и познавательном) плане первостепенное значение имеет стадия разработки законопроекта. Действительно, от того, как проведена подготовительная работа, в значительной мере зависит качество закона. Однако с точки зрения законодательства, регулирующего сам законотворческий процесс, в большинстве случаев (кроме, например, разработки бюджета) безразлично, кто, где и как разработал тот или иной законопроект.
В данном случае более важно (с формальной точки зрения), чтобы он был внесен в законодательный орган компетентным на это субъектом и в соответствии с установленной процедурой. Однако далее юридическая форма прохождения законопроекта через соответствующие инстанции как раз способствует отклонению некачественных проектов или их исправлению.
Таким образом, можно констатировать расхождение законодательного процесса4 (понимаемого в настоящем контексте в качестве деятельности законодательного органа, урегулированной нормами права, то есть с формальной-юридической точки зрения) и законотворчества (как познавательной, информационной деятельности как самого законодательного органа, так и иных субъектов, т. е. с содержательной точки зрения).
Юридическим фактом и, соответственно, моментом, с которого начинается законодательный процесс (формальный), является законодательная инициатива, т. е. внесение уже готового законопроекта в законодательный орган. При этом право законодательной инициативы со времени образования парламентаризма принадлежит (наряду с другими субъектами) и самому законодателю5.
СТАТЬИ
Законотворческая (содержательная — информационно-познавательная) деятельность начинается с осознания проблемы и возможности ее решения путем принятия нового закона или отмены (изменения) старого. Эта предварительная стадия представляет собой подсистему социальных процессов, предшествующих началу официального процесса, и включает в себя сбор информации по поручению официального органа и выработку на основе полученной информации рекомендаций в отношении характера и содержания определенного решения.
Исходя из изложенного представляется обоснованным решение проблемы соотношения формальных и содержательных сторон законодательного процесса, предложенное Н. М. Коркуновым. В данном контексте он писал: «Относительно законодательного почина или инициативы надо различать фактическое возбуждение законодательных вопросов и собственно право почина. Право почина, как всякое право, предполагает соответствующую обязанность. Праву законодательного почина соответствует обязанность обсудить возбужденный законодательный вопрос... Право законодательного почина как особое, самостоятельное право принадлежит лишь тому, кто может потребовать, чтобы возбужденный им законодательный вопрос был обсужден законодательным учреждением»6.
Подготовка законопроекта в общем и целом с содержательной точки зрения представляет собой объективацию права. Это означает познавательную деятельность, направленную на выявление права в реальных общественных отношениях. На наш взгляд, право — это момент, сторона общественных отношений, которые формируются объективно и одновременно спонтанно. Поэтому разработчик закона должен прежде всего обнаружить в реальной жизни «юридическую составляющую», юридическую природу спорадически возникающих в социальной действительности факторов (явлений, процессов), объективно требующих специально-правового воздействия (юридического нормативного регулирования).
Однако автор законопроекта может и должен предугадывать возможные тенденции в изменении общественного бытия и по возможности опережать их принятием соответствующего нормативного акта. Не любой из них войдет в плоть и кровь общественных отношений из-за принципиальной неполноты и вероятностного характера прогнозов. Но такие попытки предпринимались, предпринимаются и будут предприниматься.
Правовым критерием эффективной законопроектной (да и в целом законодательной) деятельности является стабильное воспроизводство (функционирование) соответствующего государства как целостного организма. Для того чтобы таковое имело место, законопроекты должны учитывать не только тенденции политического, экономического и социокультурного развития страны, но и ее специфические особенности. В более общем плане в данном контексте следует говорить о конституционной идентичности конкретной национальной законодательной системы. В свою очередь, проблема конституционной идентичности непосредственным образом связана с содержанием такого понятия, как основы публичного правопорядка. Наконец, последнее затрагивает контент еще одной фундаментальной категории, прежде всего, конституционного права — основ конституционного строя.
Современной юридической науке как на ее теоретическом уровне, так и в отраслевом срезе еще только предстоит синтезировать понимание соотношения категориальной триады: конституционная идентичность — основы публичного правопорядка — основы конституционного строя, тем более что последние две конституционно-правовые категории нашли свою легализацию в тексте Конституции Российской Федерации (гл. 1), а также в органическом законодательстве (см., например, ст. 104.6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»)7.
Рассмотрим подробнее планирование законотворческой деятельности. Такое планирование представляет собой попытку придать этой деятельности научную основу и обеспечить надежные ориентиры законопроектным работам. Без четкой программы, дающей конкретные ориентиры законотворческой деятельности, в работе законодательных органов неизбежны хаотичность, не всегда обоснованная зависимость издания акта от «сиюминутных» обстоятельств, неоправданное дублирование, приводящие к ослаблению внутрисистемных связей в законодательстве, что в конечном счете влечет неэффективность последнего. Планы и программы законотворческих работ дают возможность применить комплексный подход к правовому регулированию общественных отношений с выделением его главных направлений в зависимости от социальных потребностей, позволяют рациональнее организовать работу по подготовке законопроектов (усилить контроль сроков подготовки проектов законов, обеспечить координацию деятельности органов, осуществляющих их подготовку, с большей эффективностью для законотворческого процесса провести необходимые исследования).
СТАТЬИ
Планы и программы законотворческих работ должны составляться систематически. При этом они могут быть либо оперативными, т. е. на один год, либо перспективными. Срок последних целесообразно соотносить с временным периодом функционирования выборного законодательного органа (сроком легислатуры). Внутри такого перспективного плана вполне оправдана разбивка законопроектов по годам либо на первоочередные и последующие. Допустимы планы и стратегические, на более далекую перспективу. Однако такой план не должен рассматриваться как нормативная директива, он носит лишь примерный, модельный характер.
Структура перспективного плана, как нам представляется, должна отражать основные объекты законодательного регулирования. Последние, на наш взгляд, должны отражать основные сферы общества. Качество законодательства в первую очередь зависит от того обстоятельства, кто является автором — разработчиком соответствующего законопроекта (если, конечно, «вынести за скобки» влияние на законотворчество политической конъюнктуры). Поэтому принципиально важным вопросом плана законотворческих работ является определение субъекта, ответственного за проектную работу.
В большинстве случаев решение этого вопроса остается открытым. И такой подход в целом представляется правильным, так как любая инициативная группа или любое лицо могут предложить свой законопроект. Однако прежде чем стать законодательной инициативой, т. е. быть внесенным в законодательный орган субъектом, определенным законом, такой проект должен пройти экспертную проверку.
На наш взгляд, целесообразно — именно в целях повышения эффективности — поручать разработку законопроектов профессионалам — ученым и юристам-практикам, а также профессионалам-практикам в той сфере общественных отношений, которая является предметом регулирования проектируемого закона (соответственно — специально-юридическая и профильная экспертизы). Это могут быть (чаще всего так оно и есть) временные, «разовые» экспертные группы, прекращающие свою деятельность по выполнении работы. Однако в связи с тем обстоятельством, что законотворческий процесс — постоянная деятельность законодательного органа, представляется целесообразной организация постоянных научно-исследовательских коллективов — институтов законодательства. К тому же практическое законотворчество знает весьма успешный многолетний опыт эффективного функционирования, например Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Такой институт в состоянии выполнить большинство проектных работ и привлечь необходимых компетентных специалистов для подготовки или экспертизы любого законопроекта.
Рассмотрев подготовительную подсистему законодательного процесса, перейдем к анализу деятельности законодательного органа по принятию законов.
Структурным элементом юридического процесса является процессуальная стадия. Поэтому вполне оправданным представляется рассмотрение законодательного процесса через анализ его стадий.
Стадия традиционно определяется в этимологических словарях как период, определенная ступень, этап, фаза развития чего-либо. Отсюда стадия юридического процесса (и законодательного в том числе) — это его пространственно-временная, динамическая характеристика. Она выражается в совокупности процессуальных правоотношений, объединенных ближайшей целью и одновременно установленным законом порядком движения дела.
Стадии законодательного процесса подверглись незначительному изменению с момента зарождения парламентаризма. Так, еще А. Д. Градовский выделял следующие «моменты» законодательства: а) инициатива (возбуждение вопроса о необходимости издать новый закон, отменить, видоизменить или дополнить уже существующий); б) обсуждение законопроектов, включающее возможность внесения поправок; в) заключительное голосование; г) утверждение законопроекта — санкция королевской власти, предполагающая право вето8. Н. М. Коркунов выделял пять стадий: 1) почин; 2) обсуждение; 3) утверждение; 4) обращение к исполнению; 5) обнародование9. С учетом этого представляется целесообразным выделить следующие процессуальные стадии: 1) законодательная инициатива; 2) обсуждение законопроекта; 3) принятие закона; 4) утверждение закона и его официальное опубликование (обнародование).
СТАТЬИ
Процедуры законодательного процесса создают весьма важные процессуальные гарантии эффективности законодательства. На первый взгляд они могут показаться чрезмерно усложненными, слишком формализованными. Однако чем более сложен процесс принятия законов, тем больше вероятность принятия качественных, эффективных нормативных правовых актов.
Изложенные общетеоретические основы эффективности законодательства свидетельствуют о чрезвычайной сложности данной проблемы, которая обусловлена прежде всего тем, что вычленить «юридическую составляющую» из всей совокупности общественных отношений весьма затруднительно. Это связано с тем обстоятельством, что, на наш взгляд, право — это лишь момент, сторона общества, причем момент или сторона, по сути, всех общественных отношений: и экономических, и политических, и идеологических, и социокультурных. Поэтому невозможно представить картину общества в виде ранжированных в ряд его основных сфер, т. е. размещенных в один ряд сферы экономики, сферы политики и в том числе юридической сферы общества. Все они тесно переплетены, взаимодействуют и взаимообусловливают друг друга.
Таким образом, все сферы общества так или иначе влияют на конечный результат — на состояние общества в целом. И даже самый сложный корреляционный анализ не в состоянии показать, как на этот конечный результат влияет именно законодательство, так как он абстрагируется (чего невозможно добиться в реальной жизни) от воздействия иных привходящих факторов. Попутно заметим, что отдельной проблемой является количественное измерение состояния общества, без чего проблема эффективности законодательства также не может быть положительно решена.
Второй проблемой, заслуживающей в данном контексте пристального внимания, представляется в условиях государства с федеративной формой территориального устройства пересечение законодательства федерации и субъекта федерации10. Действительно, что в большей степени изменило экономическую ситуацию в том или ином регионе: принятие нового Гражданского кодекса на федеральном уровне либо льготное налогообложение малого предпринимательства на уровне субъекта федерации? Ответить на этот и подобные вопросы весьма затруднительно. Для успешного разрешения указанных проблем важное значение приобретает нормативное закрепление и особенно практическая реализация принципов разграничения законодательной компетенции федерации и субъектов федерации.
Как уже отмечалось, вычленить влияние законодательства на состояние общества чрезвычайно затруднительно. Наиболее «продвинутой» из юридических дисциплин в этом направлении оказалась теория уголовного права и граничащая с ней криминология. Именно в этих дисциплинах проведено достаточно репрезентативное количество исследований, посвященных в основном изучению предупредительного эффекта уголовного законодательства. Однако и там юридическая наука в настоящее время едва ли располагает рекомендациями, которые исчерпывающе раскрывают оптимальные критерии для принятия уголовных законов.
Перейдем теперь собственно к факторам, влияющим на эффективность законодательства. Представляется возможным их классифицировать на факторы внутренние, имманентные самому законодательству, и факторы, являющиеся внешними относительно системы законодательства.
Начнем их анализ с внутренних факторов. К ним относятся правильный выбор круга общественных отношений, подлежащих специально-юридическому воздействию; определение цели правового регулирования; применение принципов системного подхода; оптимальность средств и методов правового регулирования (дозволительный, разрешительный либо смешанный типы в зависимости от юридической природы подвергаемых правовому воздействию общественных отношений); выбор адекватной формы нормативного акта; адекватность выбора времени введения соответствующего регулирования; следование правилам законодательной техники и другие.
Представляется целесообразным начать их рассмотрение с правил законодательной техники как важнейшего фактора эффективности законодательства. Эти правила в совокупности составляют правила законодательного процесса и самым непосредственным образом влияют на качество принимаемых законов. Повторим уже высказанную ранее мысль: чем сложнее законодательная процедура, тем больше вероятность эффективного законодательства. Особое внимание при этом должно быть уделено процедуре экспертной проверки законопроектов.
Не менее важным с содержательной точки зрения представляется правильный выбор круга общественных отношений, подлежащих правовому регулированию. При этом объектами законодательного регулирования должны быть основные сферы социальной жизнедеятельности. В этих сферах (политика, экономика, культура и т. п.) к законодательному регулированию должны быть отнесены наиболее принципиальные, социально значимые отношения, затрагивающие прежде всего правовой статус личности.
СТАТЬИ
При этом представляется крайне важным избегать избыточного нормативного регулирования соответствующих общественных отношений, несоразмерной юридизации социальных явлений и процессов, личностного и коллективного поведения. Тем более недопустимо вторжение позитивного права в сферу, являющуюся юридически индифферентной, т. е. характеризующейся способностью саморегулирования иными — неправовыми — механизмами социальной регламентации.
Принципиально важным при определении объектов законодательного регулирования является учет экономических, географических, социокультурных и иных особенностей соответствующего социума. Для их выявления и объективации в форму закона необходимо привлечение экспертов-специалистов. При этом неучет (недостаточный учет) тех или иных общественных связей, объективно нуждающихся в правовом опосредовании при определении сферы правового регулирования, или, наоборот, его распространение на отношения, которые не требуют соответствующего юридического воздействия, может привести к существенному снижению эффективности права и, как следствие, его легитимности.
Достаточно важным является правильное установление цели законодательного воздействия. Это связано с тем обстоятельством, что законодательная деятельность по своей природе — это целенаправленная деятельность. Поэтому законотворчество начинается с осознания проблемы, которая конкретизируется в цели — желаемом состоянии объекта, в котором данная проблема преодолена. Наиболее существенным здесь является операционализация такой цели, ее перевод на юридический язык.
К названному фактору цели непосредственно примыкает фактор средств и методов законодательного регулирования. Хорошо известно, что цель без реальных средств ее достижения остается не более чем благим пожеланием. Иными словами, цель должна быть достижимой. Однако средства, необходимые для принятия и, главное, действия закона, на наш взгляд, относятся к внешним факторам, влияющим на законодательство. В данном случае речь идет о юридических средствах, т. е. методах правового регулирования. Это требование (оно же — фактор эффективности законодательства) состоит в согласовании принимаемого закона с отраслью права, к которой он относится. Следовательно, метод правового регулирования, от которого зависит специфика правовых норм данного закона, должен соответствовать методу правового регулирования данной отрасли позитивного права.
Логически следующим фактором эффективности законодательства является его системность. Принцип системности в концентрированном виде предполагает как внутреннюю непротиворечивость закона, так и его согласованность (и непротиворечивость) с системой законодательства в целом.
Важное значение для эффективности законодательства имеет также вопрос своевременности принятия нового нормативного правового акта.
Законодательство должно оперативно следовать за динамикой жизни. Данное требование не должно восприниматься буквально и предполагать упрощенную (а потом и более быструю) процедуру принятия законов. Поспешность может обернуться низким либо недостаточным качеством нормативных актов. Добиться оптимального сочетания оперативности и скрупулезности при принятии законов очень сложно. В идеале принимаемый закон должен опережать динамику общественных отношений и выражать ее тенденцию. Однако принятие таких законов — задача из разряда трудноразрешимых (особенно в современных условиях тотального усложнения социальных связей), и поэтому законодательство либо не успевает за изменением общественных отношений, либо, если принимается в спешном порядке, является некачественным, что служит причиной внесения многочисленных изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты на основании результатов правоприменения, что, в свою очередь, отрицательно влияет на эффективность действующего регулирования и в более общем плане на его легитимность.
Концентрированным выражением изложенных факторов эффективности законодательства является установление адекватной формы нормативного акта, т. е. закрепление общественных отношений (либо уже сложившихся, либо еще только складывающихся), объективно нуждающихся в юридическом опосредовании, в форме именно закона. Для этого требуется и правильно выбрать объект законодательного регулирования, и четко определить цель и средства правового регулирования и т. д. В общем и целом можно утверждать, что право (как совокупность естественно сложившихся общеобязательных общественных отношений, институционализированных в нормах права) должно быть выражено в адекватной форме законодательства. От этого (какие отношения
СТАТЬИ
будут закреплены в законе, как будет протекать этот процесс) во многом зависит эффективность законодательства.
Теперь перейдем к рассмотрению внешних относительно законодательства факторов его эффективности. Из их числа выделим и рассмотрим такие, как политико-экономическая ситуация в обществе; материальное (прежде всего финансовое) обеспечение реализации законов; легитимность законодательства и внешнее влияние на законодательство (так называемый «зрительный эффект»).
Политико-экономическая ситуация в обществе является первейшим материальным фактором, обусловливающим потребность в принятии нового закона или изменении (отмене) действующего нормативного правового акта. Однако такое влияние (обусловливание) является не прямым, а косвенным, опосредованным и взаимным (обратным, т. е. взаимовлиянием). Промежуточными звеньями, опосредующими взаимовлияние политико-экономического состояния общества и законодательства, являются осознание политической элитой проблемы и постановка цели, переводящей эту проблему на «юридический» язык, а также легитимность законодательства (прогноз того, будет ли «принят» [воспринят, одобрен] адресатами соответствующих предписаний (населением в целом) новый закон или нет).
Постановка такого рода цели относится к вопросу политической воли и является предметом политологии. Поэтому обратим внимание на проблему легитимности законодательства как фактор его эффективности. Данная проблема, однако, в свою очередь напрямую задевает вопрос о механизмах (инструментах) верификации этой легитимности. При этом, например, опросы общественного мнения, изучающие степень поддержки населением деятельности тех или иных органов государственной власти или тех или иных законов, являются не совсем корректными. Например, едва ли на вопрос: поддерживаете ли такой-то закон в сфере налогообложения, можно ждать заведомо положительный ответ большинства.
Кроме того, при исследовании легитимности чаще всего не проводится различие между конкретным государственным органом, персонифицированным с конкретными должностными лицами (или законом) и государственной властью (или законодательством) как таковой. При этом понимание необходимости законодательного регулирования и критическое к нему отношение — не одно и то же. Критическое отношение — это еще не отрицание надобности в нормативном регулировании как таковом.
Несомненно, законодательство (и законодатели) должны оправдывать существующий «кредит доверия». Это предполагает отражение в законодательстве объективных (а не конъюнктурных) потребностей населения.
В конце XX в. (хотя эта тенденция в других странах наметилась намного раньше) важным фактором, воздействующим на законодательный процесс и эффективность законодательства, стал так называемый «зрительный эффект», который состоит в заимствовании опыта иных правовых систем. Действительно, сегодня мир в связи с процессами глобализации и вызванными ею параллельно проходящими процессами правовой конвергенции (взаимопроникновения контента правовых систем и даже правовых семей) стал единым целым, системой, в которой изменение в одной ее части неизбежно сказывается на всех остальных подсистемах. Однако влияние иного опыта и его заимствование имеет как положительные, так и отрицательные черты.
Долгое время считалось, что есть единая магистральная линия всемирно-исторического развития. Первой на этот путь вступила Европа (страны Западной Европы), а все остальные регионы мира рано или поздно должны проделать этот путь. Поэтому необходимо заимствовать экономику, политические институты и систему законодательства Западной Европы и становиться в ряды «цивилизованных» государств.
Эта тенденция может наблюдаться как на уровне политических элит, которые пытаются проводить политику модернизации (или вестернизации) в своих считающихся отсталыми странах, так и на уровне обыденном, повседневном. Именно на этом «нижнем» уровне и наблюдается так называемый «зрительный эффект». Он проявляется в неудовлетворенности своим положением широких слоев населения «отсталой» страны по сравнению с населением «передовых» стран и в принципе при наборе определенных обстоятельств может породить соответствующие реформационные или даже революционные ожидания. Такое состояние депривации (или неудовлетворенности) подталкивает политическую элиту к заимствованию (даже копированию) чужого опыта без какого-либо критического к нему отношения.
Однако, как показал опыт XX в., мир, конечно, стал единым, в том числе в связи с невероятными по своим масштабам технологическими прорывами, но различные регионы мира продолжают сохранять свою уникальность. Поэтому опыт Западной Европы оказался малопригодным, на- пример, для постсоветской России без серьезной его корректировки. И главным критерием оценки западного законодательства должна стать российская правовая культура11. Именно с позиций естественно-исторически сложившейся правовой культуры российского общества и могут при необходимости отбираться (очень осторожно, взвешенно) «иноземные» нормативные правовые модели для разработок в сфере отечественного законодательства. Таким образом, внешнее влияние, т. е. учет иного законодательного опыта, может стать важным фактором повышения эффективности законодательства при непременном условии его творческого использования применительно к условиям соответствующей правовой системы. Иными словами, компаративистика является очень мощным, эффективным средством современных правовых технологических процессов, в том числе в сфере законотворческой деятельности публичной власти, равно как и в области нормопроизводства линейного типа в частноправовой сфере. Однако в той же мере компаративный инструментарий при его использовании соответствующими национальными субъектами требует к себе особо взвешенного, вдумчивого и каком-то смысле даже деликатного отношения. Особенно данное замечание актуально для мощных в смысле исторического опыта политических систем и правопорядков.
СТАТЬИ
В заключение следует подчеркнуть, что эффективность права в целом и позитивного права в частности как слегка забытая проблема общетеоретической юриспруденции и социологии права требует к себе в новых социальных реалиях и нового внимания, и новых подходов к исследовательской парадигме. При этом, с одной стороны, интерес представляет анализ эффективности позитивного права в его отраслевом срезе, поскольку именно на этом уровне наиболее показательным станет задействование современных электронных технологий при проведении конкретносоциологических исследований в сфере различных правовых явлений и процессов. С другой стороны, особое внимание привлекает также внешняя составляющая — анализ эффективности нормативного регулирования в сравнительно-правовом аспекте, в контексте включенности национальных правовых систем в метасистему мирового правопорядка, в их соотношении и взаимодействии с наднациональными юридическими инструментами и механизмами.
Список литературы К вопросу о факторах эффективности позитивного права
- Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. Т. 2. 1982.
- Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: теория и практика: монография. 2-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. T. 6. М., 1977.
- Градовский А. Д. Общее государственное право. Лекции. СПб., 1885.
- Коркунов Л. М. Русское государственное право. Изд. 6-е. СПб., 1990. Т. 2.
- Сергевнин С. Л. Субъект федерации: статус и законодательная деятельность. СПб.: Издательство Юридического института. 1999.
- Сергевнин С. Л. Российское национальное правосознание: некоторые конституционно-правовые проблемы // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 5 (41). С. 16-23.