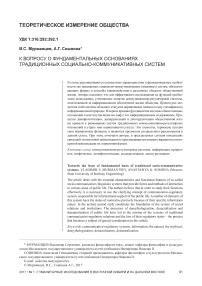К вопросу о фундаментальных основаниях традиционных социально-коммуникативных систем
Автор: Мурманцев Владимир Сергеевич, Сошнина Анастасия Геннадиевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Теоретическое измерение общества
Статья в выпуске: 1 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сущностные характеристики и функциональные особенности так называемых социально-коммуникативных (языковых) систем, обеспечивающих формы и способы взаимодействия в различных областях общественной жизни. Авторы полагают, что для эффективного исследования их функций необходимо использовать уточняющее понятие коммуникативно-регуляторной системы, ответственной за информационное обеспечение жизни общества. Причем ряд элементов этой системы обладают статусом нормативных именно в силу специфики их информационной природы. В период архаики фундаментом системы общественных отношений и институтов является миф с его информационным содержанием. Процессы демифологизации, десакрализации и денатурализации общественной жизни привели к размыванию систем традиционных коммуникативно-регуляторных отношений и утрате ими нормативного статуса. Эти элементы, теряющие сегодня свои нормативные функции, и являются предметом специального рассмотрения в данной статье. При этом, отмечают авторы, в предлагаемых сегодня концепциях грядущей техногенной цивилизации не просматривается никаких вариантов полноценной компенсации их нормативной роли.
Коммуникативно-регуляторные системы, информация, природное, мифическое, демифологизация, десакрализация, денатурализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170175697
IDR: 170175697 | УДК: 1:316:292:392.1
Текст научной статьи К вопросу о фундаментальных основаниях традиционных социально-коммуникативных систем
Термин «социально-коммуникативные системы» был введен социолингвистом А.Д. Швейцером в работе по теории перевода, но его использование быстро вышло за пределы собственно языкознания и приобрело широкие социальные коннотации. Дело в том, что Швейцер привлек внимание к социальным функциям локальных языковых систем, обеспечивающих коммуникацию в различных сферах общественной жизни (в науке, искусстве и т.д.), а также в различных социальных ситуациях и группах. При этом, в такого рода системах присутствуют элементы, выполняющие нормативные функции. Мы полагаем, что сегодня анализ этих элементов заслуживает особого внимания, поскольку позволяет уточнить смысл ряда нарастающих социальных процессов, фактически размывающих эти функции. С этой целью мы обратились к сложившемуся в отечественной литературе понятию коммуникативно-регуляторных систем (далее – КРС) [8; 9; 11] и, опираясь на это понятие, рассмотрели ряд проблем из числа тех, что имеют отношение к предлагаемым ныне моделям «новой реальности», призванным, в случае их реализации, обеспечить эффективность регуляторно-коммуникативных процессов в структурах «грядущего» техногенного общества (или техногенной цивилизации) [3].
В центре нашего внимания будут находиться ритуал, обряд, этикет. Вместе с обычаем, церемониалом, а также стоящей несколько особняком традицией они образуют комплекс механизмов, позволяющих КРС как системно-структурным целостностям выполнять свои функции в реализации многообразнейших, специфически человеческих форм и способов взаимодействия. Идет ли речь об «информационном» или «технотронном» обществе, об эпохе «NBIC – конвергентных технологий», о коэволюционных моделях развития и прочих моделях прогнозируемой социальной реальности, очень важно понять, обладают ли нынешние реально существующие КРС потенциалом, достаточным для того, чтобы органично встроиться в прогнозируемые типы «новой реальности»? При этом, чтобы ответить на данный, практически важный вопрос, необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на те существенные особенности, которыми обладают исторически сложившиеся КРС в сегодняшних условиях; важно обратить внимание на те функции, которые заложены в их системной организации; на те проблемы, с которыми встретились они сравнительно недавно и с которыми непременно столкнутся в близкой перспективе. Мы обратимся к мифу.
КРС сложились в ходе социальной эволюции языковых систем, ответственных за информационное обеспечение нормативных функций в человеческом обществе [11, с. 11]. В этом классе систем можно выделить три основных типа: традиционный ; институциональный (законодательный) и нравственный (основанный на принципах морали) [11, с. 12]. Обратимся к первому из этих типов систем. Этикет, ритуал и пр. являют собой освященную традицией форму взаимоотношений между людьми. Их можно рассматривать как своеобразную «копилку» тщательно отобранных способов отношений, с одной стороны, позволяющих связать друг с другом разные эпохи и различные этносоциальные общности, а с другой – провести между ними разграничительные линии. И главная проблема здесь – что же делает данные системы нормативными, то есть – в более жесткой или более мягкой степени – обязательными к исполнению?1
На наш взгляд, уяснению причин такого рода обязательности может способствовать обращение к феномену информации, который «играет существенную роль в эволюционных процессах всех систем, образованных взаимодействующими факторами, включая биологические системы и человеческие сообщества» [2; 4]. Поскольку информация – начало организующее, упорядочивающее, наполняемые ею системы способны нести статус нормативных. Исполнение требований этикета, ритуала и проч., которые формировались на протяжении жизни многих поколений, в силу своего информационного соответствия факторам реальности, обеспечивает, говоря современным языком, надежные условия существования социума как организованной целостности. А поскольку социум для человека традиционного общества есть отображение космического порядка, постольку сбой в жизни этносоциального сообщества неизбежно воспринимается как сбой в жизни самого мироздания. И потому требования этикета ли, или ритуала, в большинстве случаев принимаются традиционным обществом к неукоснительному исполнению. Люди «этой» культуры, совершающие «эти» ритуалы, обряды и проч., в принципе не допускали и тени сомнения в их информационной достаточности (как в «узком» понимании информации, сводящем ее содержание к сообщениям, сведениям и т.д., так и в «широком», где информация соотносится с основаниями миропорядка).
Конечно, сказанное выше об информации относится к нашим сегодняшним представлениям, и потому, естественно, возникает вопрос: как связаны миф и информация? Очевидно, что эта связь не ограничивается простым и очевидным типом отношений между сказанием и его истолкованием . Информационная емкость исторически ранних форм мифа была достаточной для того, чтобы в течение поразительно долгого времени составлять надежную опору социальным КРС и, разумеется, не напрямую, а через посредство традиционных нормативных систем исполнять свою упорядочивающую и организующую роль в сфере общественного бытия. Существуют немалое число трудов, предлагающих различные варианты видения природы мифа и мифического. Мы в своих рассуждениях опираемся на определение А.Ф. Лосева: «Миф – необходимейшая – прямо нужно сказать, трансцендентально необходимая, – категория мысли и жизни, и в нем нет ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это – подлинная и максимально конкретная реальность» [7, с. 37]. Такой подход, по нашему мнению, наиболее полно высвечивает особенности соотношения между мифом и «информацией» в предельно широком значении данного понятия.
Информационная полнота мифа есть условие, благодаря которому он составлял фундамент всей системы общественных взаимоотношений и институтов на ранних стадиях социальной эволюции: «В цивилизациях примитивных народов миф исполняет незаменимую функцию: он выражает, возвышает и кодифицирует верования; он защищает и налагает моральные принципы; он гарантирует действенность ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни, необходимые человеческой цивилизации; он отнюдь не лишенная содержания выдумка, а напротив – живая реальность, к которой человек постоянно обращается…» [16, с. 16]. При этом для нас принципиально важно, что информация, наполняющая миф «вневременна». Миф – рассказ о Творении, о том, что случилось на самом деле, где начало всего сущего. Но тем самым он «объясняет в равной мере как прошлое, так и настоящее, и будущее» [5, с. 242], миф, стало быть, – вне времени; миф – это «вспышка вечности» [5, с. 217]. И коль скоро миф повествует не только о самом Творении, но также и о заповеданных Сакральными Творцами нормах жизни, заповеди эти одинаково значимы в качестве вневременных безусловных стандартов социальных взаимоотношений – они безоговорочно, без каких-либо намеков на рефлексию, принимаются как modus operandi сообщества. Так же не подвержена времени информация, сообщенная Творцами и переданная Первопредкам – она столь же полна и истинна для их далеких потомков, как и «в начале времен».
Современные КРС и их традиционные составляющие уходят корнями вглубь мифического с его своеобразным, в чем-то непривычным и даже неприемлемым для многих наших современников информационным содержанием. В основании классических древних мифов лежат два системообразующих начала – «сакральное» и «природное». Для «человека традиции» оба они представляются равноправными, равно значимыми источниками информации, звеньями труднопредставимой цепи ее трансформаций в «теле» мифического, в конечном счете, выражающей себя в ритуале и обряде, церемониале и других традиционных составляющих КРС.
Для «человека традиции» оба они безусловно реальны, как реальна сама действительность – они же ее неотъемлемые части; различны только уровни, занимаемые ими в этой действительности. Для современного человека «природное» – вся без исключения совокупность объектов, процессов и явлений материального уровня мироздания; ее существование – ни напрямую, ни опосредованно – не является результатом творческой деятельности человека или же его непреднамеренных действий. К «природному» в таком понимании относится вся область материального мира – от физической Вселенной до социально организованных форм живого. Если согласиться с такой трактовкой, то к природному с полным на то основанием можно отнести сложившийся в ходе эволюции, – вне, до и независимо от человека социальный тип организации живой материи. Для более четкого различения особенностей организации «социального» в живой природе и человеческом обществе мы используем понятия биосоциальный, характеризующий эволюционно более ранний уровень организации, и социобиологиче-ский – уровень, генетически связанный с первым, вырастающим из него и возвышающийся над ним, подобно гегелевскому отрицанию как имманентному моменту в процессе саморазвития природы. Свидетельством их органического единства является факт возрастающего массива научных данных о том, «что биологическая и социально культурная эволюция являются двумя аспектами одного и того же фундаментального процесса в природе» [4, с. 117]. Понятно, что речь здесь идет именно об основах, о внутренних принципах – неважно, кем или чем «заложенных», – организации живых систем биосферы; человеческое общество, можно сказать, досталось нам в наследство от наших палеоантропных предков, а отнюдь не создано впервые «из чего-то» кроманьонцами. Кстати, заметим, что значительная часть известного науке животного мира также вела и ведет так называемый социальный образ жизни.
Несомненно, что формы реализации этих «принципов социального» различны: «совокупность общественных отношений» в косяке сельди, стае дельфинов, стаде павианов или орде троглодитов различаются существеннейшим образом, но лежащие в природе живого принципы социальной организации едины. Разумеется, существуют разительные отличия множества форм социального устройства общества, например, таких уникальных его атрибутов как философия, наука, религия, формировавшихся в процессе сознательной целенаправленной деятельности, от всех предшествующих биологических форм социального; но мы считаем, что в данном случае познавательно бесплоден самодовольный антропоцентризм – по выражению Э.О. Уилсона – «смертельный порок интеллекта». Ведь существование социально организованных систем любого уровня живого требует наличия механизмов, осуществляющих коммуникативные функции как в отношениях между структурными составляющими самих систем, так и между системой и внешней средой. Действия их обеспечиваются постоянным потоком информации, ими получаемой, обрабатываемой, хранимой и используемой, так как «всякий организм скрепляется наличием средств приобретения, использования, хранения и передачи информации», а любое «сообщество продолжается лишь до того предела, до которого простирается действительная передача информации» [1, с. 215] – эта формулировка Н. Винера давно уже вошла в разряд классических.
Соответственно, социальные информационные механизмы, обладателями которых были наши ближайшие по ступеням эволюционной лестницы предшественники, в процессе сапиенизации претерпели различного рода изменения, причем некоторые из них – скорее всего, уже в период ранней архаики – нашли свое воплощение в природных основаниях мифического.
Что касается «сакрального» как смыслообразующего начала древних мифов, то для современно- го человека само это понятие утвердилось в науке сравнительно недавно, не ранее второй трети ХХ в. И, в зависимости от собственных мировоззренческих предпочтений, различные авторы то сводят его содержание к тривиальному отождествлению с «религиозным» [13], то подходят к нему с учетом неоднозначности и глубины его содержания [15, с. 589]. Но в любом случае, что важно для нас, сакральное, в отличие от природного, недоступно исключительно эмпирическому или абстрактно-логическому постижению – оно переживается на уровне образно-чувственного видения мира, оно символично: «Символические структуры сакрального, сами переживания сакрального окажутся напрасными, если человек не обладает структурами интеллекта и воображения для того, чтобы их понять» [14]. Для человека, обладавшего (или даже в наше время обладающего) соответствующими «структурами интеллекта и воображения», сакральное есть такая же данность, как и природное. Религия в таком случае есть по сути описание этой данности, ее модель, особенности которой детерминированы тем типом культуры, что присуща этносоциальной среде обитания человека; тогда вера – логически и эмпирически необоснованная уверенность в преимуществе «моей» религиозной модели над любыми иными.
Именно символические структуры позволяют человеку передавать свои переживания, сообщать их посредством таких (также традиционных) структур, как обряд, ритуал, наконец, миф. Для большинства подобных культур «сакральное основание мифа составляет основополагающую реальность существования» [14]. А применительно к состоянию сознания современного общества, можно уверенно сказать: происходящая секуляризация представлений о природе бытия и его источниках, выраженных в самых различных интеллектуальных конструкциях, сказывается на миропонимании сравнительно узкого круга интеллектуалов. У несравненно большей части современного общества давление массива бессознательного, с его архетипическим «сокровенным», приводит к конфликту, ввергающему это самое общество в «когнитивный диссонанс» – состояние, во многом определяющее показатели эффективности как раз коммуникативно-регуляторных систем, о которых шла речь выше.
Социальные коммуникации, определяющие качественное своеобразие и составляющие эссенциальный базис биосоциальных и социобиологи-ческих систем на всех структурных уровнях организации биосферы, источником и основой своего существования имеют информацию. Именно она является фактором, обеспечивающим ход регуляторных и коммуникативных процессов, обладающих нормативным статусом. И если сегодня мы можем просто констатировать кризис в этой области человесеского общения, то не последнее место в этом принадлежит той степени деградации, которой отмечено состояние КРС и их составляющих традиционного типа. На наших глазах размываются еще сохранившиеся фрагменты фундамента исторических КРС – мифа с его сакральным и природным источниками информации, и одна из важнейших тому причин – «демифологизация» мифа с его «десакрализацией» и «денатурализацией».
История демифологизации мифического начинается задолго до дней нынешних. Уже в так называемой системе греческой мифологии III-I вв. до н.э. места для изначального мифа не осталось [17]. И это прим том, что подлинными носителями мифа в этом смысле были, как настаивал на том Элиаде, «цивилизации примитивных народов», и начинать изучение мифов следует не с древней Греции, где они, как и в Индии, и на Ближнем Востоке утратили свою «мифическую субстанцию» и претворились в «литературу»; а с этой утратой они перестали быть тем самым основанием, на котором утверждались традиционные составляющие КРС. Лишившись своего сакрального, миф традиционный, «полноценный» преображается в свой эрзац, «парамиф». Ценность несомой им информации, с точки зрения ее соответствия реальности, сомнительна, но вера в нее требуется от членов данного сообщества неукоснительная. Впрочем, пускай это будет «литература», фантазия сказочного – в них остается нечто глубинно-мифологическое. И в первую очередь это относится к «народным массам, которые «всегда живут мифами», от них в переходные эпохи могут избавиться лишь небольшие группы людей, да и они крушат старые мифы, освобождая место для новых; но это «новое» в действительности есть лишь забытое старое» [12, с. 22]. Надо полагать, прав был К.Г. Юнг, утверждавший, что миф можно уничтожить единственным способом – поставив на его место другой миф [16].
Но так или иначе, десакрализация, или секуляризация информационного ядра мифического ведет к утрате человеком былой убежденности в реальности запредельной, сокровенной стороны мироздания и, как следствие, утрате в его глазах нормативного статуса традиционных составляющих КРС. Она ведет к утрате таких коммуникационных механизмов, которые, организуя и упорядочивая потоки информации о мире в данном социуме, обеспечивали выполнение требований, сложившиеся в данной этносоциокультурной среде. Соответственно, разрушая представления о мире, основанные на запредельном, сакральное (а именно оно и определяет нормативный характер традиционных составляющих КРС), культура лишается, в конечном счете, одного из важных источников информации. Что мы и наблюдаем сегодня. Там, где доминирует культура европейского типа можно наблюдать, во-первых, девальвацию нормативной значимости исторических форм ритуала, обряда, церемониала и проч.; во-вторых, нарабатываются формы социального общения, из которых либо полностью удалено сакральное, либо оно замещается различными образчиками «эрзацрелигии» с обожествлением Расы, Класса, Гуру, Вождя… – ХХ в. насыщен такими примерами и, чувствуется, что ХХI в. из этого набора тоже кое-что достанется.
Рука об руку с «расколдовыванием» мира следует «денатурализация» человека. В первом приближении денатурализацию можно определить как доминирующую в миропонимании современной цивилизации тенденцию к умалению, в предельных же случаях – отрицанию, значимости природного фактора в жизни человечества, сведение всего многообразия бытия к социальному (или же – культурному) уровню. Очевидно, что тогда утрачивается не только существующее на рациональном уровне мировоззрения осознание своего глубинного, генетического сродства со всеми формами жизни на планете, – исчезает и эмоциональное чувство природы, столь характерное для «человека традиции». Помимо всего прочего это чувство предполагает ответственность перед природным – в себе и вокруг себя. А коль скоро все это перестает рассматриваться в качестве значимого условия бытия сегодняшнего человека, то с мировоззренческого плана оно переносится на повседневно-практический. Разумеется, ни к чему другому, кроме возрастания энтропии и нарастания степени напряженности в социуме, такая ситуация не ведет.
Когда же «мир овеществленных представлений современной цивилизации создает у нас впечатление упорядоченности, то это происходит за счет утраты представлений о сложности реальной жизни…»; это – «крайнее абстрагирование от окружающей реальности…» [6, с. 151-153]. Информация становится беднее содержанием, коммуникационные системы упрощаются, в перспективе вероятна даже их деградация; утрата представлений о сложности жизни, что, в конечном счете, снижает степень надежности и устойчивости такого рода организованной целостности, как человеческое общество. А между тем, на почве этой «простоты» взрастают технократические иллюзии, воплощающиеся, в частности, в идее сциентистски настроенного круга интеллектуалов – о трансмутации Человека Разумного в Космиурга.
Например, о подобной возможности на заре кибернетики рассуждал Н. Винер. Редактор перевода его книги так передает мысли ученого, кстати, вполне созвучные представлениям Циолковского и некоторых других «космистов»: «Человек будущего вряд ли останется таким же «натуральным» существом, таким же теплокровным позвоночным, каким он вышел из горнила естественного отбора. Почти наверное, он будет искусственно развивать свой мозг и свое тело, будет по воле лепить и изменять свою физическую оболочку… это будет биологическая революция, и если смелые гипотезы оправдаются, она будет означать преобразование всего человеческого существования. Быть может, далекий смысл «безумной» винеровской идеи о передаче человека по телеграфу и есть достижение человеком перевоплощаемости? Позволим себе минуту фантазии: не станет ли тогда человек новым могущественным космическим существом, свободным от земных ограничений? » (курсив наш. – прим. авт .)
И уже в наши дни, вдохновленный наступлением эпохи антропоцена известный астроном, бывший президент британской «Академии наук» – Лондонского Королевского общества Мартин Ривз утверждает, что антропоцен несет человечеству невиданные ранее перспективы для развития. Продолжая линию Циолковского и Винера, он настаивает на том, что «люди могут достичь новой стадии эволюции, уже постбиологической, когда из представителей органической природы они превратятся в электронных и потенциально бессмертных существ, что сломает лежащие перед человечеством барьеры и позволит ему распространить свое влияние далеко за пределы Земли» [1, с. 26-27] (курсив наш. – прим. авт .). Аналогичные взгляды высказывают также сторонники современных концепций трансгуманизма [10].
Итак, если исторически наиболее ранние из доступных исследователям формы составляющих КРС вырастали из мифического с его сакральными и природными источниками информации, то в рационализирующемся обществе эти три начала, как мы стремились показать в значительной степени утрачивают важнейшую свою функцию информационного обеспечения социальных коммуникативных систем. Это, в свою очередь, ведет к утрате традиционными составляющими КРС своего нормативного статуса. Исчезает информационное наполнение традиционных составляющих КРС – этикет, обряд, ритуал переходят в разряд просто занимательного действа, правила которого устанавливаются, исполняются и меняются практически произвольно его участниками. И, конечно, обязательность их исполнения перестает быть обязательной. Собственно, не понятно, как долго могут в их нынешнем демифологизированном, де-сакрализованном и денатурализованном виде традиционные составляющие КРС исполнять свои функции. То, что они пока еще действуют можно, на наш взгляд, отнести на счет слишком короткого, по эволюционным часам, времени, прошедшего с начала деструктурализации их оснований; здесь сказывается понятная сила инерции. Но уже сейчас налицо результаты сбоев в работе информационных механизмов социальных взаимоотношений, обеспечивающих поддержание динамического равновесия в обществе как системе.
Между тем, в прогнозируемых образцах наиболее вероятной, с точки зрения ее реализации, «техногенной цивилизации», по мнению ряда исследователей, «усиливается воздействие информационно-коммуникативных технологий техносферы на социоприродные процессы, что приводит к их опасной трансформации» [3].
Список литературы К вопросу о фундаментальных основаниях традиционных социально-коммуникативных систем
- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: «Советское радио», 1968.
- Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток. М.: АСТ: CORPUS, 2013.
- Демиденко Э.С., Дергачева Е.А. Социально-философский анализ становления и развития концепции техногенного общества//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3 . -Режим доступа: http://www. Science-education, ru/ru/article/view?id = 23481
- Кальоти Дж. От восприятия к мысли. О динамике неоднозначного и нарушениях симметрии в науке и искусстве. М.: Мир, 1998.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
- Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. М.: Мир, 1981.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001.
- Лубченков Ю.Н. Коммуникативные механизмы социальной регуляции и пути их оптимизации: дисс.. канд. психол. наук. М., 2002.
- Медведев К.Б. Социально-регулятивные механизмы государственного управления фермерством как видом малого предпринимательства: дисс.. канд. соц. наук. М., 2001.
- Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего/Отв. ред. В. Прайд, А.В. Коротаев. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
- Ноздрунов А.В. Динамика социальных регулятивных систем: дисс.. канд. филос. наук. М., 2015.
- Руткевич А.М. Предисловие//Аналитическая психология: прошлое и настоящее/К.Г. Юнг, Э. Сэмюэльс, В. Одайник, Дж. Хаббэк; сост. В.В. Зеленский, А.М. Руткевич. М.: Мартис, 1995.
- Сакральное//Википедия . -Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/?oldid=83125083
- Труссон П. Сакральное и миф . -Режим доступа: http://www.nationalism. org/rnsp/Docs/bibliotec/Trusson.htm
- Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
- Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Изд. Группа «Прогресс», «Универс», 1994.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Инвест ППП, СТ, 1996.