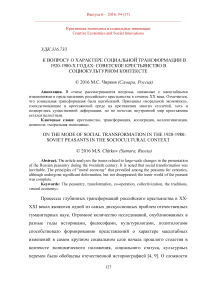К вопросу о характере социальной трансформации в 1920-1980-х годах: советское крестьянство в социокультурном контексте
Автор: Чирков Михаил Сергеевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 4 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с масштабными изменениями в представлениях российского крестьянства в течение ХХ века. Отмечается, что социальная трансформация была неизбежной. Принципы «моральной экономики», господствовавшие в крестьянской среде на протяжении многих столетий, хоть и подверглись существенной деформации, но не исчезли; внутренний мир крестьянина остался целостным.
Крестьянство, трансформация, кооперация, коллективизация, ценности, "моральная экономика"
Короткий адрес: https://sciup.org/14239081
IDR: 14239081 | УДК: 316.733
Текст научной статьи К вопросу о характере социальной трансформации в 1920-1980-х годах: советское крестьянство в социокультурном контексте
Процессы глубинных трансформаций российского крестьянства в ХХ-XXI веках являются одной из самых дискуссионных проблем отечественных гуманитарных наук. Огромное количество исследований, опубликованных в разные годы историками, философами, культурологами, политологами способствовало формированию представлений о характере масштабных изменений в самом крупном социальном слое начала прошлого столетия в контексте экономического положения, социального статуса, культурных перемен были обобщены отечественной историографией [4, 9]. О сложности
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations и необратимости процессов трансформации «крестьянского мира» спорить бессмысленно, колоссальные изменения очевидны. Вместе с тем, проблемы поиска социокультурных оснований «революции» сельского социума до конца не раскрыты; многие исследователи убеждены в негативном характере общественных преобразований в деревне, констатируя даже катастрофический упадок «крестьянской цивилизации». Однако четких ответов на вопрос «почему так произошло и что из этого вышло» до сих пор не получено. В этом смысле наука стала жертвой политических пристрастий, ибо наука исходит из анализа объективного факта, а трактовки результатов глобальной трансформации нашего общества зачастую основаны на знаменитом постулате, приписываемом М.Н.Покровскому, об истории, как политике, опрокинутой в прошлое (фраза, правда, вырвана из контекста) [7, с.5].
Мир российской деревни начал меняться не в советское время. Еще в середине XIX века под воздействием капиталистических отношений начались изменения, которые сегодня исследователи зачастую не принимают во внимание. Аграрные реформы правительства П.А. Столыпина вообще трактуются как исключительно выдающиеся, однако именно они нанесли серьезнейший удар по крестьянской общине. Мы не будем сейчас анализировать результаты столыпинских реформ, мы лишь констатируем, что процессы трансформации российской деревни начались задолго до 1917 года.
Более того, именно революция 1917 года, а особенно советская власть со своими земельными декретами и законами приостановила данные процессы. Американский историк М. Левин в работе «Российские крестьяне и советская власть» убедительно показал, что позиции сельской общины в 1920-е годы были сильны, как никогда, и советская власть мало участвовала в сельской жизни. Около 90 % крестьян принадлежали общине, это даже чуть 128
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations выше, чем в последние предреволюционные годы. Иными словами, идеология крестьянского самоуправления была глубоко укоренена не только в сознании, но и в реальной действительности. Именно община продолжала решать все важнейшие проблемы русской деревни, а роль Советов в сельской местности была крайне невелика [6, с.55].
Приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным в 1917 году не был бы возможен, если бы они не опирались на ментальность, подразумевающую «вечевую стихию» российского крестьянства [8, с.324]. Тем более было невозможно исключительно силой удержать власть в такой огромной стране, да к тому же населенной в подавляющем количестве сельскими тружениками. В этом, как нам кажется, кроется ответ, почему даже в 1919-1920 годах – пике крайне непопулярной в деревне политики продразверстки – крестьяне в значительной степени не перешли сторону противников советской власти. Политика большевизма в общем и целом отвечала интересам большой части крестьянской массы. Дальнейший период НЭПа был соткан даже не столько из противоречий, сколько из компромиссов, чтобы укрепить крестьянскую веру в «доброе, справедливое» Советское государство. Возможность работать на земле в отсутствие ее «хозяев» (за исключением государства, которое называло себя рабочекрестьянским) стала реализацией вековой мечты российского крестьянина. Усилилось стремление к зажиточности в определенной части сельского общества. Эта часть ждала новых мер со стороны власти по расширению свобод землепользования и товарооборота. Так называемое «кулачество» и значительная часть середняцких хозяйств превратилась, по образному выражению Н.И. Бухарина, в «курицу, несущую золотые яйца» [1, с.79].
Вместе с тем, значительный пласт крестьянского населения при всем этом был подвержен традиционалистским установкам, которые базировались на идеях общинной организации земледельцев. Эти люди не были уверены в 129
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations преимуществах индивидуальных форм хозяйствования, а их идеалы по-прежнему выстраивались по принципам «моральной экономики» со специфическими представлениями о должном и справедливом. Стабильные долговременные императивы вековых общинных традиций уводили в противоположную сторону от установок на индивидуализм и накопительство, и в этом смысле НЭП не разрешил сложную социальнопсихологическую обстановку в российской деревне, а в чем-то еще и усугубил ее. Если бы нэповский опыт в деревне оказался успешным, то не было бы «великого перелома» конца 1920-х годов. Тем не менее, советская власть на протяжении всех 1920-х годов проводила достаточно гибкую политику, подготавливая своего рода «почву» для будущих грандиозных изменений. Крестьянская тяга к различным формам взаимодействия, общинный характер «моральной экономики» способствовали мощному росту кооперативной деятельности на селе [10, с.112].
Большое количество кредитных, снабженческо-бытовых, производственных кооперативов стало своего рода заслоном для дальнейшего развития рыночных элементов в экономике, крестьяне увидели в них защиту от проникновения индивидуалистической психологии. Власть всячески поддерживала подобные объединения. С другой стороны, «курица, несущая золотые яйца» (крепкие единоличные хозяева) была просто необходима государству с точки зрения пополнения государственной казны для финансирования программ индустриализации.
Кризисы НЭПа, осложнение международной обстановки в конце 1920х годов поставили власть перед выбором дальнейшей модели развития, и в этих условиях сплошная коллективизация, хоть и стала во многом неожиданной для значительной части крестьянства, но была принята и понята именно как продолжение общинных традиций. К тому же, нельзя забывать: всесоюзная перепись населения 1926 года показала, что более 50 % 130
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations сельского населения была молодежь до 30 лет. Это означает, что большинство крестьян прошли идеологическую «обработку» в течение целого десятилетия, и внутренне были готовы к переменам. Молодежь была готова к глобальным изменениям на селе. Другое дело, что перемены оказались настолько радикальными и проводились в таком форсированном варианте, что стали крайне болезненными для крестьянского общества. Вместе с тем, переход к коллективной форме хозяйствования не вызвал новой «антоновщины», за исключением мелких антисоветских выступлений.
Идея о том, что коллективизация разрушила крестьянство как носителя общинного уклада, высказанная на Западе еще в 1960-е годы, стала особенно популярна в СССР в годы «перестройки». Тема гибели крестьянской «цивилизации» эксплуатировалась много и тщательно. Однако уже в начале XXI века ряд исследователей высказал мысль, что основные ментальные черты сельского труженика с завершением коллективизации не исчезли. О.М. Вербицкая пишет о том, что истинно крестьянские добродетели (инициативность, трудолюбие, чувство хозяина земли) сохранялись еще несколько десятилетий, главным образом, в условиях ведения личного приусадебного хозяйства. Окончательный удар по крестьянству, с ее точки зрения, был нанесен в начале 1960-х годов, когда советская власть начала активную борьбу с «частнособственническими инстинктами», то есть с самим личным приусадебным хозяйством [2, с.206]. В.Т. Лазарев также писал о том, что именно борьба с крестьянским хозяйством предопределила упадок села, и даже брежневские инициативы в этом вопросе, реализованные в середине 1960-х – начале 1970-х годов, не смогли кардинально изменить ситуации [5, с.121].
В свое время А.В. Чаянов [11], Э.Вульф [3], Т. Шанин [13] и другие исследователи полагали, что крестьянство является определенной социальноэкономической, культурной реальностью, которая не является выражением 131
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations конкретной исторической эпохи, она повторяется в разных эпохах, преломляясь в них, трансформируя их облик. И, действительно, после проведенной сплошной коллективизации уже к концу 1930-х годов мы видим, что черты общинного уклада никуда не исчезли, принципы «моральной экономики» продолжают действовать (трудовая нравственность, приверженность обычаям и определенным нормам поведения, осуждение накопительства и т.п.). Специфика крестьянской жизни обнаружила необычайную сопротивляемость, несмотря на попытки советской власти «сломать хребет» общине. Итогом аграрных преобразований стала глубокая трансформация российской деревни, появился новый качественный субъект советской истории и культуры. Этот субъект, безусловно, имел свое лицо. Версия о том, что власть в 1930-е годы запугала, «забила» село, превратив в послушное стадо поденных рабочих на земле, не выдерживает критики. Конечно, тотальный контроль за жизнью деревни, включение репрессивных механизмов, влияние на умонастроения в идеологическом ключе не могли пройти бесследно.
Вопреки устоявшимся стереотипам, что послевоенная деревня была загнана в прокрустово ложе сталинской тоталитарной системы, где люди боялись бороться за свои права, и были вынуждены молчаливо сносить произвол центральной и местной властей; документы эпохи свидетельствуют об обратном. Их анализ дает представление о том, что российская деревня была далека от положения «народ безмолвствует»; крестьяне активно боролись в рамках существующего законодательства с массовыми хищениями руководящих работников, за улучшение своего положения, за необходимость более взвешенного и экономически обоснованного подхода к нуждам деревни.
Большая часть писем посвящена «нарушениям Устава сельскохозяйственной артели и внутриколхозной демократии». Объектом 132
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations жалоб является колхозное руководство (в лице председателей, бухгалтеров колхозов, членов правлений), обвиняемых в хищениях социалистической собственности, а также в принятии решений без учета мнений колхозников [12, с.8]. Тяжелые послевоенные годы имели прямым следствием бедственное положение крестьян, и во многом виновниками снижения жизненного уровня в деревне с позиции рядового колхозника являлись начальники, разбазаривавшие колхозное имущество. Многочисленные жалобы пестрят доносами на председателей и членов правления. Размеры таких хищений зачастую бывают невелики, но подобные факты, с точки зрения, крестьян, являются вопиющим злоупотреблением служебным положением.
Вместе с тем, нельзя отрицать и того факта, что чувство свободного хозяйствования на земле было в значительной степени утеряно. Именно это чувство стояло в основании пирамиды крестьянских культурнонравственных ценностей. Любовь к сельскому труду воспитывалась с детства, и имела глубокий практический смысл. Формировалась внутренняя целостность крестьянина, и, хотя труд на земле был крайне тяжел, он определял уклад жизни, отношение к миру и место в нем. Эти ценности оказались во многом деформированы, но не были утрачены полностью. На генетическом уровне понятия инициативности, трудолюбия, чувства хозяина земли не были утрачены, что и показали 1970-1980-е годы. По сравнению с предыдущими десятилетиями сохранились такие фундаментальные чувства, как: духовная привязанность и бережное отношение к земле; отношение к сельскому труду как к образу жизни, а не способу извлечения прибыли; труд на земле как более достойное занятие, чем торговля и пр.
Трансформация российского крестьянства являлась неизбежной в исторических условиях ХХ века, она явилась частью мирового исторического процесса. Процесс глубоких изменений не мог привезти к 133
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations исчезновению крестьянской «цивилизации», она будет существовать, пока земля и живая природа являются основой жизни определенной группы людей. Конечно, количество людей, занимающих сельским трудом в России, неуклонно сокращается. Качество труда нынешних крестьян остается высоким, это вселяет ощущение осторожного оптимизма.
Список литературы К вопросу о характере социальной трансформации в 1920-1980-х годах: советское крестьянство в социокультурном контексте
- Бухарин Н.И. В защиту пролетарской диктатуры. -М.: Госиздат, 1928. -261 с.
- Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 1940-х -начало 1960-х гг. -М.: Наука, 1992. -224 с.
- Вульф Э. Крестьяне. -Нью-Джерси, 1966. (реферат)//Отечественная история. -1993. -№ 6. -С. 82-94.
- Ельчанинова О.Ю. Правосознание советского крестьянства периода «оттепели»: традиции и новации историографии//Вестник науки Тольяттинского государственного университета. -2012. -№ 2 (20). -С. 90-94.
- Лазарев В. Т. Аграрная политика и трансформация российского села в ХХ столетии. -Самара: СНЦ РАН, 2001. -368 с.
- Левин М. Российские крестьяне и советская власть. -Нью-Йорк, 1975 (реферат)//Отечественная история. -1994. -№ 4-5. -С. 48-59.
- Покровский М.Н. Общественные науки в СССР за 10 лет. Доклад 22 марта 1928 г.//Вестник Коммунистической академии. -1928. -Кн. 26. -С. 5-6.
- Сухова О.А. «Общинная революция» в России: социальная психология и поведение крестьянства в первые десятилетия ХХ века (по материалам Среднего Поволжья). -Пенза: ПГПУ, 2007. -374 с.
- Хасянов О.Р. Советское крестьянство на страницах зарубежной русистики//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 2. -С.515-523.
- Хироси О. Самообложение 1928-1933 гг.: К вопросу о последнем этапе русской крестьянской общины//История российского крестьянства в ХХ веке. -Токио. -2002. -№ 1. -С. 102-122.
- Чаянов А.В. «Организация крестьянского хозяйства: основные положения, хрестоматия по экономической теории/Сост. Е.Ф.Борисов. -М: Юристь, 1997. -553 с.
- Чиркова Н.В. Власть и советское крестьянство в 1945-1985 гг. (по материалам Поволжья и Приуралья): автореф. дисс.. канд. ист. наук. -Самара: Самарский государственный университет, 2010. -16 с.
- Шанин Т. Четыре модели развития советского сельского хозяйства//Великий незнакомец: Крестьяне и фермы в современном мире. -М.: Прогресс, 1992. -С. 380-401.