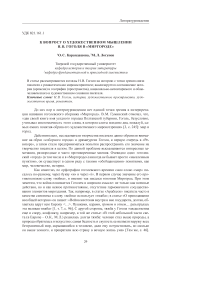К вопросу о художественном мышлении Н. В. Гоголя в "Миргороде"
Автор: Карандашова Ольга Святославовна, Логунов Михаил Львович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются взгляды Н. В. Гоголя на историю с точки зрения связи писателя с романтическим мировосприятием; анализируется соотношение истории (времени) и географии (пространства), национально-неповторимого и общечеловеческого в художественном сознании писателя.
Н. в. гоголь, история, художественное пространство, художественное время, романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146122080
IDR: 146122080 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи К вопросу о художественном мышлении Н. В. Гоголя в "Миргороде"
До сих пор в литературоведении нет единой точки зрения в интерпретации названия гоголевского сборника «Миргород». В. М. Гуминский отмечал, что, «дав своей книге имя уездного городка Полтавской губернии, Гоголь, безусловно, учитывал многозначность этого слова, в котором слиты воедино два, пожалуй, самых емких понятия-образа его художественного мировоззрения» [3, с. 245]: мир и город.
Действительно, исследователи творчества писателя давно обратили внимание на образ «соборного города» в драматургии Гоголя, в первую очередь в «Ревизоре», а затем стали предприниматься попытки распространить его значение на творчество писателя в целом. По данной проблеме высказываются интересные замечания, разнородные и часто противоречивые мнения. Очевидно одно: гоголевский «город» (в том числе и в «Миргороде») никогда не бывает просто «населенным пунктом», он существует в одном ряду с такими «обобщающими» понятиями, как мир, человечество, история.
Как известно, по орфографии гоголевского времени само слово «мир» писалось по-разному, через букву «и» и через «i». В первом случае значение его противоположно слову «война», и именно так писался топоним Миргород. При этом заметим, что война понимается Гоголем в широком смысле: не только как военные действия, но и как всякое противостояние, отсутствие гармоничного сосуществования элементов мироздания. Так, например, в статье «Арабесок» писатель часто в качестве синонима к слову «война» использует «тяжба»; в статье «О преподавании всеобщей истории» он пишет: «Война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу <…>. Пушками, ядрами, громом и огнем… разыгралась эта великая тяжба» [1, т. 7, с. 96]. С другой стороны, тяжба у Гоголя тождественна еще и спору, конфликту, например, в той же статье: «В этой небольшой части света (в Европе – О. К., М. Л.) решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство; самая бедность и скупость ее вызвали наружу весь безграничный мир, скрывавшейся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума» [Там же, с. 46].
И тогда не только «тяжба двух Иванов» в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» воспринимается с негативной сатирической позиции, но, как это ни покажется на первый взгляд странным, негативный отсвет, учитывая, что название это относится ко всему сборнику и все его герои «мирго-родцы», ложится в какой-то мере и на Хому Брута («Вий»), ведущего «битву» с фантастическим миром, и на запорожцев («Тарас Бульба») – открыто воинственный народ, живущий полнокровной жизнью только в состоянии войны. Не принимают никакого участия ни в каких «битвах» только старички Товстогубы («Старосветские помещики»), которых пугает сама мысль о возможных военных действиях в чистом виде и которые живут по законам гостеприимства, радушия и миролюбия. Вместе с тем большой мир оказывается агрессивно настроен по отношению к ним и уничтожает, стирая с лица земли, мир старосветской идиллии [4].
Слово «мiр» многозначно само по себе: это и вселенная, вещество в пространстве и сила во времени; и наша земля, земной шар, свет; и все люди, весь свет, род человеческий. Очевидно, что всему богатству значений, сходящихся, пересекающихся друг с другом и вновь расходящихся смыслов, легко находятся соответствия в художественном мире «Миргорода», хотя само слово «мiр» встречается в нем не часто. Множество смыслов, рожденных расшифровкой данного слова, возносят все происходящее в Миргороде на более высокий уровень общечеловеческой значимости. Причем огромные пространственные масштабы художественного мира сборника неразрывно связаны с большим временным охватом истории. Пространственные характеристики оказываются неотделимыми от временных, и, по мере того как в «Миргороде» мир разворачивается в пространстве, он разворачивается и во времени, по мере того как разворачиваются пространственные структуры художественного мира, раздвигаются очень широко и временные рамки происходящего.
В «Миргороде» осуществляется огромный охват времени и пространства, возникает синтез «истории» (времени) и «географии» (пространства), к которому стремились романтики. Можно сказать, что автор пытается представить объяснение истории человечества через географию, все временные преобразования, временная эволюция человечества дается Гоголем через пространственную организацию. Историю он мыслит прежде всего пространственными образами не только в художественных произведениях, но и в статьях. (Подробнее об этом писалось уже ранее: [5, с. 315–318].) Хотя подавляющее большинство гоголевских произведений содержит обстоятельные описания местности, города, хутора, деревни, улицы, дома, где происходят события повествования, вместе с тем писатель всегда выводит повествование за рамки конкретно описываемого и становится на позицию «всемирную». Так, в «украинских сборниках» Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» – речь идет не только и не столько о судьбе конкретного населенного пункта, Украины, но и о судьбе России, и шире – о судьбах всего мира; автор поднимается над национальными рамками, становясь на общечеловеческую, всемирную, вселенскую позицию. Через особенности национальной жизни Гоголь пытается рассмотреть общемировые закономерности развития человечества, совместить «микроскопическое» и «телескопическое» видение и «приблизиться к некоему видению абсолютному» [8, с. 279]. Он стремится к абсолютным ценностям, к взгляду с универсальной, всемирной точки зрения, которая не должна ограничиваться никакими рамками. Национальное же у Гоголя ценно, на наш взгляд, как неповторимое, уникальное и в то же время закономерное в общем развитии, как неотъемлемая часть общемирового целого, что соответствует романтическому мировоззрению. В частности, Ф. Шлегель призывал рассматривать нации с их особенностями как «удивительные фрагменты» общечеловеческого [9, с. 11].
Н. В. Гоголь неоднократно подчеркивает всеобщую связь жизни разных народов в едином целом: «Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без единого плана, без общей цели»; «связь эта должна заключаться в одной общей мысли; в одной неразрывной истории человечества, перед которой и государства и события – временные формы и образы!» [1, т. 7, с. 35]. Постоянно в статьях Гоголь говорит о том, что разнообразные, уникальные народы составляют «одно прекрасное целое», но, чтобы понять его, нужно всмотреться в части, его составляющие: «Не мешало бы вырезать каждое государство особенно, так, чтобы оно составило отдельный кусок и, будучи сложено с другими, составило бы часть мира» [Там же, с. 111]. По мнению писателя, «нужно стараться познакомить сколько можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его» [Там же, с. 113], что дает изучение самобытности каждого народа. По мысли Н. А. Гуляева, национальное в романтизме не цель искусства, а лишь средство для выражения общезначимых ценностей: «Все индивидуальное, самобытное приобретает подлинную объективность тогда, когда оно заключает в себе общечеловеческое» [2, с. 8]. Все сугубо национальное, единичное, в чем нет общечеловеческого, не способствует, по мысли романтиков, сплочению народов, их единению, воспитанию в духе общечеловечности, в чем состоит основная задача художника. Поэтому все индивидуальное, самобытное, национально-неповторимое приобретает подлинную ценность тогда, когда оно заключает в себе общечеловеческое.
Уже в первых сборниках Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», объединенных украинским материалом, ощутим интерес к национально-историческому. Но если в «Вечерах» очевидна заинтересованность автора в национальной экзотике, в национальном колорите, то в «Миргороде» национальный материал уже не является для писателя самоцелью. Здесь происходит максимальное раздвижение национальных рамок и включение национального пространства во всемирный масштаб, что в дальнейшем станет характерной чертой его творчества («Мертвые души», «Рим» и др.). Именно здесь Гоголь нашел универсальные подходы к конкретному материалу. В художественном мире «Миргорода» были найдены пути связи национального и универсального, общечеловеческого, писатель добился органического синтеза национально-неповторимого и всемирного видения мира. В данном цикле Гоголь блистательно овладел органической диалектичностью видения жизни, умением совместить индивидуальное, частно-национальное с универсальной масштабностью мышления. Идея всеохватности, расширяющая этот мир до пределов необозримых, обнимающая народы, времена и континенты, владела Гоголем на протяжении всего его творчества.
Ф. Шлегель писал, что необходимы литературные сочинения, основным качеством которых должна стать универсальность [9, с. 221]. У Гоголя универсальностью обладает история, кстати, как и у Шлегеля, который утверждал: «Цель всякого знания – понимание мира, мудрость мира, одним словом, история, поскольку история охватывает всякое становление. С высшей точки зрения существует только одно единое становление и, следовательно, только одна единая наука – история, делящаяся на разные сферы. Самое всеобщее во всяком искусстве и всякой науке – это историческое; исторический взгляд – наивысший, а также самый популярный, понятный, всеобщий» [Там же, с. 189]. В глазах французских романтиков, современников великих исторических переворотов, история превращалась из собрания архе- ологических памятников в выражение «великого процесса» жизни, в живую связь времен [7, с. 70]. Как отмечает И. В. Карташова, изучение истории раскрывало перед романтиками не только картину грандиозных событий, но и постоянного развития, зарождения нового в старом. История становилась выражением движущейся жизни, как и природа, которая воплощала в себе действие, творческое начало. Поэтому романтики увидели в истории эстетическое содержание, исторические события, эпохи, факты являлись в их глазах по-настоящему поэтичными [Там же]. Н. В. Гоголь также усматривал в истории высокую поэзию: неслучайно в статьях «Арабесок» он часто не только восхищается слогом ученых-историков, восторгается буйством стихии в самой истории, но его потрясает чудесное, которое он видит в истории человечества. Так, например, происшествия, наполняющие среднюю историю, как пишет Гоголь, «все исполнены чудесности», сообщающей средним векам какой-то фантастический свет» [1, т. 7, с. 28]. А то, что «выходит из категории обыкновенного», «что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы» [Там же, с. 112]. Более того, именно историю писатель считает первостепенным фактором развития человеческого духа: «Всеобщая история <…> должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, своеобразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи» [Там же, с. 35].
Отмечая неразрывную связь между пространством, в котором развивалось человечество («географией»), и временем его бытия («историей»), Гоголь выходит на уровень высокого синтеза философии природы и философии истории: «Она (география – О. К., М. Л.) должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы» [Там же, с. 36].
Сложное единство природы и истории, о котором говорит Гоголь, в полной мере нашло выражение в «Миргороде». Оно вбирает в себя все отдельные пространства как составляющие всеобщего космоса и все частные судьбы народов как необходимые слагаемые всеобщей истории. Причем в «Миргороде» сама организация материала является у Гоголя универсальной, перед нами предстает несколько уровней пространств: пространство историческое, пространство бытовое (которые вместе составляют реальное пространство) и пространство фантастическое, герои, живущие в этом художественном мире, обладают собственным пространством. Все эти пространства в «Миргороде» охватываются неким универсальным видением мира, авторским пространством, проявляющим себя во всех повестях книги, но наиболее ярко выступающем в финале «Повести о том…», с высоты которого автор выносит свой знаменитый приговор: «Скучно на этом свете, господа!».
Список литературы К вопросу о художественном мышлении Н. В. Гоголя в "Миргороде"
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 8 т. М.: Правда, 1984.
- Гуляев Н. А. Системность в романтизме и ее основа//Миропонимание и творчество романтиков. Калинин: Калининский гос. ун-т, 1986. 106 с.
- Гуминский В. М. «Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках»//Гоголь: история и современность. М.: Сов. Россия, 1985. 496 с.
- Карандашова О. С. Художественное пространство «украинских» сборников Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»): учеб. пособ. Тверь: Научная книга, 2005. 116 с.
- Карандашова О. С. Взгляды Н. В. Гоголя на историю//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 315-318.
- Карташова И. В. Гоголь и романтизм. Калинин: Калининский гос. ун-т, 1975. 125 с.
- Реизов Б. Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. М.: Гос. издат. худож. лит., 1958. 569 с.
- Чудаков А. П. Вещь в мире Гоголя//Гоголь: история и современность. М.: Сов. Россия, 1985. 493 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1983. 448 с.