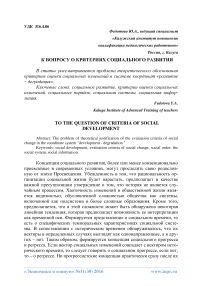К вопросу о критериях социального развития
Автор: Федотова Ю.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема теоретического обоснования критериев оценки социальных изменений в системе координат «развитие - деградация».
Социальное развитие, критерии оценки социальных изменений, социальные порядок, социальная система, социальная информация
Короткий адрес: https://sciup.org/140116442
IDR: 140116442
Текст научной статьи К вопросу о критериях социального развития
Концепции социального развития, более или менее конвенционально приемлемые в современных условиях, могут проследить свою родословную от эпохи Просвещения. Убежденность в том, что рациональность организации социальной жизни будет нарастать, предполагает в качестве важной пресуппозиции утверждение о том, что история не является случайным процессом. Хаотичность изменений в общественной жизни является видимостью, обусловленной сложностью общества как системы, включенной как подсистема в более сложные образования. Кроме того, предполагается, что в этой сложности может быть обнаружена некоторая линейная тенденция, которая предполагает возможность ее интерпретации как временной оси. Формируется представление о социальном времени, то есть о специфических темпоральных характеристиках социальной системы. В сопоставлении с историческим временем обнаруживалось, что их векторы в определенных случаях выглядят как однонаправленные, а в других – нет. Таким образом, формируется концепция социального прогресса и регресса. Если вектор социальных изменений совпадает с вектором исторического времени, то следует говорить о социальном прогрессе, если нет, то – о регрессе. Но прогрессистские концепции практически сразу после их появления подвергались довольно обоснованной критике, указывающей на субъективный характер механизмов выявления вектора исторического времени. Вопрос о ритмах и направлении истории делал прогрессистские концепции социального развития крайне уязвимыми. В силу данного обстоятельства предпринимались попытки методологически усилить концепции социального развития путем введения более или менее измеримых критериев, позволяющих дать оценку социальном изменениям, рассмотрев их как признак развития или деградации.
Очень условно все подходы к теоретическому обоснованию таких критериев можно разделить на несколько групп. Первая группа может быть связана с эволюционным подходом, в котором понятие развития соотносится с уровнем адаптивности. Социальные изменения, с этой точки зрения, могут рассматриваться как признак развития в том случае, если они ведут к качественному усложнению системы, повышающему его устойчивость и степень адаптации к меняющимся условиям. Элегантность этого подхода состояла в элиминации субъективности и ценностных суждений. Но, к сожалению, этот подход не позволял избежать родовой травмы всех социальных дисциплин: невозможность контролируемого и воспроизводимого эксперимента. Грубо говоря, устойчивость социальной системы к внешним и внутренним вызовам может быть оценена только в бинарной размерности: справилась или не справилась, выжила или не выжила. Но в этой системе координат невозможно установить отношения «более и менее». То есть, при оценке социального развития мы не могли обоснованно выдвинуть суждение о том, что система стала более устойчивой, только о том, что она устойчива.
Вторая группа подходов акцентирует внимание на субъектности процесса социального развития. В некотором смысле в их основе лежит именно моральная посылка, утверждающая, что социальное пространство существует как «дом человека», а не как нечто самодостаточное. В данном случае критерий для оценки социальных изменений может быть только объективированным переживанием субъекта, являющегося участником процесса социальных изменений. Здесь мы видим обращение к попыткам найти выражение таким сложным состояниям как, например, счастье, самореализация, удовлетворенность и пр. В настоящее время данный проект реализуется многими исследователями, предлагающими разнообразные варианты интегрированных индексов, позволяющих выносить оценочные суждения на основании данных подобных критериев. Тем не менее, использование данных индексов не может быть основанием для выявления сколько-нибудь устойчивых закономерностей социального развития. Многочисленные исследования колебаний подобных индексов демонстрируют отсутствие статистически значимых тенденций1. такое положение вещей дает основание предполагать, что социальные изменения по отношению к субъекту, чье мнение учитывается при формировании индексов, являются слишком сложным процессом, что препятствует учёту всех факторов, влияющих на изменения индекса. «…сама процедура оценки предполагает, что субъект, принимающий решение о приобретении того или иного знания, достаточно информирован о степени его полезности»2. Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией разрыва при переходе от одного уровня к другому. Те критерии, которые выглядят вполне работоспособными на микроуровне, не могут рассматриваться как информативные на макроуровне. Подобный парадокс объясняется тем, что система взаимодействия больших социальных обществ подчиняется более простым принципам, чем на микроуровне. Попытка установить какие-то общие закономерности социального развития, которые были бы общими для всех уровней социального взаимодействия, обречена на неудачу. «Однако закономерности социальной эволюции, обладающие достаточным уровнем строгости для того, чтобы их можно было бы назвать именно законами социальной эволюции, законами истории, по всей видимости, обнаруживаются только на том уровне, до которого у математически ориентированных историков, судя по всему, до сих пор не доходили руки, на уровне Мир-Системы в целом»3.
Таким образом, сегодня складывается довольно противоречивая теоретико-методологическая ситуация, в рамках которой, с одной стороны мы имеем множество концептуальных схем объяснения социального развития, понимаемого как переход к всё более высоким степеням организации, сопровождаемый увеличением степени устойчивости и адаптивности общества к внешним и внутренним вызовам, а с другой – более или менее применимыми критериями оценки социального развития, которые используются при измерении в конкретных ситуациях, например, при оценке результатов конкретного проекта по социальному развитию региона. В силу данного обстоятельства представляется крайне затруднительным не только экстраполировать результаты региональных исследований и использование успешно реализованных методик в близких по многим параметрам регионах, но и даже простой перенос технологий социального развития.
В этом случае одной из самых актуальных задач в исследовании социального развития является не поиск решений частных вопросов о вариантах дивергентных и конвергентных процессов социальных изменений, а поиск единой системы критериев, применимых для иерархических, антро-померных систем. «Ранее считалось необходимо найти ряд процедур в целом образующих универсальный метод, формальная структура этого метода такова, что он должен приводить к истине любые подставленные, за- мещая переменные значения. Это соответствовало в общих чертах понятию о «рациональном» или «рациональности», на универсальности и единственности которой в любое время и в любом месте базировалась ее общеобязательная преемственность, всеобщность и необходимость, достигаемая так же единством использования понятий их ясностью и общепонятностью. Все это служит гарантом того, что метод будет пониматься и употребляться всегда и везде одним и тем же образом»4.
Третья группа подходов к теоретическому обоснованию критериев для оценки социального развития может быть описана как информационный подход. Дело в том, что социальные связи и отношения, обуславливающие само существование общества как субстрата, даны и самому участнику процесса социальных изменений, и исследователю, занимающему теоретически отстраненную позицию, прежде всего, в форме определенного знания. В собственном смысле слова социальная информация, будучи ситуативно организована, выступает как определенный социальный порядок, который, в самом общем виде, и претерпевает изменения. Изменение степени информированности субъекта о социальном порядке ведет к изменения тех параметров, которые используются в интегративных единицах измерения социального развития таких, как, например, индексы. С другой стороны, исследователь в ходе обработки социально значимой информации, также производит знание о социальном порядке. Более того, любая социологическая теория, в том числе и теории социального развития, носят перформативный характер, то есть, собственно концептуализация социальных изменений сама производит изменения. «Драматургическая модель, основанная на метафоре «общество как театр», в попытках найти компромисс между текстуальной и прагматической составляющими социальной реальности развилась в более широкий подход, трактующий социальную деятельность как культурный перформанс»5. Собственно, изменение знания о социальном порядке является основой субъективных переживаний участников конкретных изменений социальной ситуации. Таким образом, можно говорить о том, что увеличение степени упорядоченности социальной информации с которой сталкиваются все участники, и представляет собой основной мотив в оценке того или иного изменения как развития или деградации. Данный подход не противоречит первым двум, скорее дополняя их. Но, в то же время свободен от их ограничений. Этот аспект можно отнести к числу базовых методологических преимуществ информационной парадигмы, поскольку она позволяет вводить единообразие измеряемых и оцениваемых сущностей. С другой стороны, эта группа подходов часто дает выход в две крайности. С одной стороны попытки свести социальное развитие к росту упорядоченности социальной информации в форме концептуальных схем и объяснительных конструкций ведет к сциентизации социального знания, выдвигая на первый план именно научное знание. Само по себе это явление не может быть названо чем-то негативным, но нивелирование иных, вне научных, форм знания как способа организации социальной информации, формирует некоторые предпосылки для технологизации процесса управления социальным развитием. Если упростить данную схему, то речь идет об утрате телеологического аспекта социальных изменений, где социальное развитие того или иного сегмента социальной системы становится самоцелью.
Итак, на основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что в сложившихся условиях необходимо обращение к исследованию, которое будет направлено на теоретическое обоснование и концептуализацию критериев социального развития в контексте информационного подхода. Наиболее продуктивным полем здесь представляется концептуализация процессов циркуляции социальной информации в ходе ее оформления в знание, принимаемое как субъективная оценка изменений социального порядка с точки зрения и конкретной ситуации, и социальной системы в целом.
Список литературы К вопросу о критериях социального развития
- Семенков Ю.А. Международный индекс счастья и индекс качества жизни в зеркале макроэкономических показателей. М.: Скимень, 2012.
- Вознякевич Е.Е. Научная рефлексия и формирование самосознания молодого ученого//Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2010. № 3. С. 56-61
- Коротаев А. В. Законы истории: Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. М.: КомКнига/URSS, 2007.
- Вознякевич, Е. Е. Дискуссия о новой парадигме гуманитарных наук (о книгах издательства "Алетейя", вышедших в серии "Тела мысли")//Вопросы философии, 2007, № 12. С. 171-175
- Дудина В.И. Эпистемологическая реконфигурация социального знания: от репрезентации к перформативности//Журнал социологии и социальной антропологии. N 3, 2012. С. 35-50