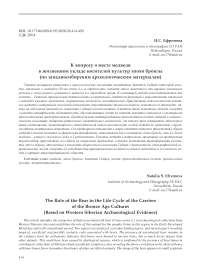К вопросу о месте медведя в жизненном укладе носителей культур эпохи бронзы (по западносибирским археологическим материалам)
Автор: Ефремова Н.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению в археологических коллекциях памятников Западной Сибири категорий находок, связанных с медведем (Ursus arctos L.), и определению значения этого животного для народов указанного региона в эпоху раннего-развитого металла и в переходное время. В настоящей работе рассматриваются два аспекта - бытовой (промысловая деятельность) и сакральный, свидетельствующий о существовании связанных с медведем культов: магических, жертвенных, возможно, зоолатрических. Присутствие остеологических остатков медведя в материалах поселений доказывает существование промысла данного животного в древности, однако их небольшой процент по сравнению с общим числом костных остатков диких животных может говорить о наличии специфических обстоятельств, обуславливавших охоту на медведя, вероятно связанных с некоторыми идеологическими представлениями. Предположение подтверждается присутствием костей медведя в остеологических коллекциях сибирских ритуальных (жертвенных) комплексов, где также прослеживается отмеченное выше соотношение, проявляющееся в относительной немногочисленности особей медведя по сравнению с другими видами жертвенных животных. О неординарном отношении к зверю свидетельствует и присутствие образа медведя в мелкой пластике и оформлении артефактов, относящихся как к культурам эпохи бронзы, так и к более поздним - раннего железного века и Средневековья. Участие медведя в ритуальных практиках на протяжении тысячелетий, присутствие его образа на сакральных предметах, а также постоянная трансформация и развитие этого образа, отмеченные в искусстве аборигенного населения Сибири с древности до этнографической современности, могут говорить об устойчивости иррациональных взглядов на данное животное и его важном месте в картине мира традиционных обществ.
Медведь, эпоха бронзы, западная сибирь, охота, производственные культы, промысловые культы, жертвоприношение
Короткий адрес: https://sciup.org/145145631
IDR: 145145631 | УДК: 299.4 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.414-420
Текст научной статьи К вопросу о месте медведя в жизненном укладе носителей культур эпохи бронзы (по западносибирским археологическим материалам)
Медведь ( Ursus arctos L. ) – один из самых крупных видов промысловой фауны – во все времена обращал на себя внимание человека. Его присутствие в материалах археологических памятников Западной Сибири вызывает оживленный интерес исследователей не одно десятилетие. При этом речь идет не только об остеологических остатках хищника, но и об использовании его образа в мелкой пластике, литье, графике и оформлении артефактов [Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000; Косинцев, 2000; Подобед, Усачук, Цимиданов, 2015; и др.]. Объем научной литературы, посвященной данному персонажу, колоссален, и в данной статье невозможно охватить весь комплекс обсуждавшихся в разное время проблем. Представляется уместным рассмотреть археологические коллекции памятников Западной Сибири, содержащие связанные с медведем материалы, с двух точек зрения: бытовой и сакральной.
Бытовые предметы такого облика достаточно редки, поскольку очень сложно однозначно определить, была ли декорированная вещь исключительно бытовой или имела определенную культовую коннотацию. Так, например, образ медведя уверенно угадывается в известных по материалам западносибирских памятников эпохи бронзы пряжках из капа [Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, рис. 3; Гришин и др., 2016, рис. 1]. В виде головы медведя оформлена «погремушка» из жилища на кротовском поселении Венгерово-2 [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2017]. При этом «погремушка» в каче стве музыкального инструмента могла быть связана и с культовыми практиками. Использование же ее по прямому назначению – в качестве детской игрушки – наводит на мысль о том, что образ, предназначенный для игры ребенка, должен был обладать положительным содержанием и иметь специфическое значение, возможно, связанное с мифоритуальной сферой или определенными культурными ценностями. Особый пласт в общем массиве подобных находок, не рассматриваемый в настоящей статье, составляют скульптурные изображения медведя и культовая пластика эпохи раннего железа и Средневековья (кулайская, релкинская культуры), описанию и интерпретации которых посвящено множество работ (см., напр. [Федорова, 2000]).
Что касается места медведя в хозяйстве древнего общества, то и в эпоху раннего металла, и позднее зверь являлся объектом промысла, мясо употреблялось в пищу. Его обитание на территории Барабинской лесостепи прослеживается до этнографического времени (до конца XIX в.) [Миддендорф, 1871, с. 94]. О сугубо утилитарном назначении охотничьей добычи свидетельствуют материалы поселений бронзового и железного веков, содержащие раздробленные черепа и длинные трубчатые ко сти животного [Косинцев, 2000, с. 6]. Ко сти медведя присутствуют в материалах памятников I тыс. до н.э. – поселений Еловское (8 экз. / 2 % от общего количества остеологического материала на памятнике), Милованово-3 (1 экз. / 3 %); они имели место также на поселении Кижирово, городище Каменный Мыс и др. [Сидоров, 1989, табл. 1]. Их незначительное количество может объясняться малочисленностью зверя в природе и вследствие этого редкостью подобной охотничьей добычи. Е.А. Сидоров, анализируя комплекс вооружения населения лесостепного Приобья, со ставленный коллекциями находок с поселений и некрополей, считал, что, как и у современных сибирских народов, определенные виды наконечников стрел могли иметь специфическое функциональное назначение. В частности, длинные наконечники с плавным переходом от пера к насаду являлись исключительно охотничьими, могли использоваться не только в луках, но и в самострелах и предназначались для охоты на медведя [Там же, с. 21], т.е. промысел этого животного, несмотря на относительно небольшое количество обнаруженных на памятниках рассматриваемого региона костей, имел настолько важное значение, что для этого существовал особый тип промыслового оружия. Возможно, охота на медведя обеспечивала общество не только мясной пищей, но и необходимыми для обрядов жертвенными приношениями.
На Урале существование связанной с медведем обрядовой деятельности в пещерах зафиксировано с эпохи бронзы до этнографической современности. В эпоху раннего железа культы медведя развиваются и трансформируются. Подтверждением этому могут служить пещерные святилища: на настоящий момент здесь известно восемь культовых пещер, в со ставе жертвенных приношений которых присутствует медведь. П.А. Косинцевым и его коллегами описана заметная ва- риативность совершавшихся обрядов: отличия зафиксированы в количественном соотношении останков животного, в степени раздробленности остеологического материала, в возрастном составе, в скелетном наборе особей. Так, например, на святилище в Канинской пещере основным объектом ритуальных действий были головы медведей. Подобная неоднородность жертвенных приношений может свидетельствовать о различных ролях медведя в ритуалах и разной функциональной направленности самих святилищ [Косинцев и др., 2017; Косинцев, Бачура, Панов, 2018]. В Сибири бронзовые и костяное изображения медведей обнаружены в Айдашинской пещере, в большинстве своем здесь они являлись деталями средневекового шаманского костюма, по-видимому, использовавшегося при отправлении ритуалов [Молодин, Бобров, Равнушкин, 1980, с. 145]. Ко сти медведя присутствуют также в материалах культовых комплексов лесной зоны Северной Евразии, например Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места, где были обнаружены 743 кости животных, из них медведю принадлежало 7 экз. – клыки и верхняя челюсть [Мурыгин, 1984, с. 26]. В Горном Алтае, на святилище Грот Куйлю (Кучерла-1), связанном с производственными культами, отмечены кости, как минимум, девяти особей (105 экз.), при этом наибольшее количество костей медведя зафиксировано на писанице-жертвеннике в слое эпохи раннего железа (66 экз. / 6 особей) [Молодин, Ефремова, 2010, с. 23; с. 45, табл. 3].
На территории Барабинской лесостепи также имеют ме сто жертвенники, в материалах которых встречаются ко сти хищника. Как жертвоприношение интерпретируется ко сть медведя, которая была обнаружена в яме ритуального комплекса Тартас-1, относящегося к во сточному варианту пахомовской культуры (исследования ак. В.И. Молодина 2020 г.; см. статью в настоящем сборнике). Первая пястная ко сть животного залегала под челюстью коровы на дне жертвенной ямы (№ 1666). Кроме остеологических остатков, здесь же находились фрагменты керамики и приклады (камни?), покрытые мощной карбонатной коркой [Ефремова и др., 2020]. Останки медведя обнаружены на святилище и в другой крупной жертвенной яме (№ 1442) среди большого количества ко стей диких и домашних животных, рыбы и отдельных артефактов-прикладов [Ефремова и др., 2017, с. 315].
На территории региона подобный обряд жертвоприношения отмечен не только на святилище. Так, на поселении Преображенка-3 в кротовском жилище на дне ямы обнаружено четыре черепа медведей, сама же яма была заполнена «бабками» – су- ставами конечностей животных. Еще одна яма на поселении содержала два черепа медведей, на одном из них сохранились следы бронзового окисла [Молодин, 1985, с. 74]. В межжилищном пространстве поселения эпохи поздней бронзы Миловано-во-3 в округлой яме глубиной 0,7 м обнаружена фаланга медведя в сочленении с когтем, помещенная туда вместе с бронзовым ножом и черепом лошади [Сидоров, Новикова, 2003, с. 121]. По-видимому, содержимое ямы также является остатками обряда жертвоприношения, об этом может свидетельствовать специфический набор помещенных сюда прикладов: бронзовое изделие, кость конечности и череп животных. На поселениях пахомовской культуры также отмечены кости медведя, например, одна кость животного присутствует в остеологическом материале селища Большой Имбиряй-10 [Матвеев, Костомаров, Костомарова, 2009, табл. 1], упоминается медведь и в ряду промысловых животных, присутствующих в остеологической коллекции с поселения Ново-Шадрино-7 [Матвеев, Чикунова, 1999, с. 49]. В одном из двух зольников (№ 2) этого поселения среди костей животных, насчитывающих 1 869 экз., отмечено пять костей медведя, как минимум, от трех особей. Примечательно, что в заполнении зольников обнаружены также кости человека [Корочкова, 2009, с. 30].
Анализ обрядовой деятельности, включавшей присутствие медведя, позволил исследователям говорить о специфическом наборе костей животного, характерном для той или иной культуры. В частности, в обрядах кротовцев чаще использовались головы или черепа медведя; в ритуалах федоровской культуры – челюсти; синташтинской, абашевской и ряда других – клыки; синташтин-ской же, срубной, ирменской и позднеирменской – ко сти конечностей [Подобед, Усачук, Цимиданов, 2015, с. 48]. Вполне вероятно, что к последней группе можно отнести и носителей восточного варианта пахомовской культуры, поскольку в ямах-жертвенниках ритуального комплекса Тартас-1, отно сящего ся к последней, обнаружены ко сти стоп медведя. Конечно, единичность находок в настоящий момент не позволяет экстраполировать данный вывод на всю культуру в целом, однако территориальная и хронологическая близо сть, а вследствие этого и возможная общность базовых идеологических взглядов носителей пахомовской культуры с группой вышеперечисленных делают подобное предположение достаточно вероятным. Еще одним важным фактором является обнаружение костей медведя на святилище, связываемом в т.ч. с бронзолитейным производством [Моло-дин и др., 2012; и др.]. Предположения о взаимосвязи медведя и производства металлов неодно- кратно высказывались в научной литературе. Так, на поселении федоровской культуры Черемуховый куст в колодце внутри жилища обнаружена челюсть медведя вместе с фрагментами керамики, кусками металлургического шлака и ко стями ребенка, в т.ч. черепа; на поселении срубной культуры Горный-1 в Оренбургской обл. на плавильном дворе обнаружены шесть фрагментов костей дистальных частей конечно стей медведя, на этом же памятнике найдена подвеска из медвежьего клыка; на поселении сабатиновской культуры Ново-киевка (эпоха бронзы, Северное Причерноморье) в яме найдена глиняная статуэтка медведя, сама же яма располагалась близ жилища 1, где зафиксировано скопление литейных форм [Подобед, Усачук, Цимиданов, 2015, с. 47–49; Ковтун, 2008, с. 102–103]. На памятнике X–XIII вв. Тазовская литейная мастерская остеологический комплекс раскопа 2 представлял собой большей частью обожженные остатки головы и лап медведя. Учитывая особое положение животного в идеологических представлениях населения севера Сибири, исследователи предполагают существование здесь в эпоху Средневековья обряда, включавшего сожжение медвежьих костей. Сходный ритуал отмечен также в металлургическом комплексе Зеленый Яр VI–VII вв., где обнаружены кальцинированные когтевые фаланги животного [Лобанова, 2013, с. 325–326]. Вполне вероятно, что обнаружение ко стных остатков конечностей медведя в жертвенной яме святилища, на котором вело сь производство бронзы, может свидетельствовать о суще ствовании подобных верований на территории Барабинской лесостепи как минимум с эпохи поздней бронзы.
Еще один вариант семантической нагрузки останков медведя прослежен в ритуально-обрядовых комплексах памятника Городок Мо-нысь урий в таежном Приобье, отно сящего ся к эпохе позднего Средневековья. Два таких комплекса представляют собой скопления костей, в т.ч. медведя, располагавшиеся в непосредственной близо сти от погребений и ритуально связанные с по следними. Согласно этнографическим параллелям, медведь мог выполнять охранительную функцию при погребении, защищая мир живых от мира мертвых [Лобанова, Кардаш, 2018, с. 145–146]. Учитывая, что ритуальные комплексы Тартаса-1 расположены на одноименном разновременном некрополе, включающем и захоронения восточного ареала пахомовской культуры, подобная семантика останков медведя не лишена вероятности. На жертвенниках ко сти медведя чаще вс его единичны или малочисленны. Если смысл жертвоприношений животных – наделе- ние объекта обряда мясной пищей, то семантика ко стных о статков медведя может быть иной. Еще один аспект – известная доля сходства анатомического строения медведя и человека, а также уже упоминавшиеся случаи присутствия в материалах жертвенников одновременно и ко стей медведя, и антропологических остатков.
Возможны и другие трактовки роли животного в идеологических представлениях древних обществ: у многих народов он является героем зо-олатрических культов [Соколова, 1972, с. 63–85]. Медведь рассматривается также в качестве символа плодородия, имеющего отношение к фаллическим культам [Подобед, Усачук, Цимиданов, 2015, с. 46; Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000, с. 23–33, Хлобыстина, 1987, с. 114–115; и др.].
Резюмируя вышесказанное, можно отметить важное место животного в картине мира древних обществ. Участие медведя в ритуальных практиках на протяжении тысячелетий, присутствие его образа на сакральных предметах, а также постоянная трансформация и развитие этого образа, отражающиеся в искусстве аборигенного населения Сибири с древности до этнографической современности, могут говорить об устойчивости иррациональных взглядов на данное животное, имеющих глубокие мифологические и тотемические корни (см., напр. [Кириллова, 2007; Федорова, 2000; и др.]). Вариативность в контексте обнаружения остеологических остатков хищника на памятниках может свидетельствовать о различных ролях медведя в погребальной, производственной и родовой обрядности, а также о полифункциональной направленности как связанных с медведем культов, так и самих святилищ.
Список литературы К вопросу о месте медведя в жизненном укладе носителей культур эпохи бронзы (по западносибирским археологическим материалам)
- Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Кишкурно М.С., Галямина Г.И., Назарова Л.В. Новые погребальные комплексы эпохи бронзы в Новосибирском Приобье (работы 2016 года в Кудряшовском бору) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 269-273.
- Ефремова Н.С., Молодин В.И., Кравцова А.С., Кудинова М.А., Дураков И.А. К вопросу о вариативности обрядов жертвоприношения в эпоху поздней бронзы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI (в печати).
- Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 314-317.
- Кириллова Ю.В. Скульптурные изображения медведя эпохи неолита-бронзы (прагматический аспект) // Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. - Вып. 3. - Барнаул: Азбука, 2007. - С. 25-27. - (Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства).
- Ковтун И.В. Восточная периферия самусьской культуры и изображения медведей в западно-сибирской скульптурной миниатюре и металлопластике II тыс. до н.э. // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. - № 3 (35).- С. 97-104.
- Корочкова О.Н. О западносибирских зольниках эпохи поздней бронзы // РА. - 2009. - № 1. - С. 25-35.
- Косинцев П.А. Человек и медведь в голоцене Северной Евразии (по археозоологическим данным) // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - С. 4-9.
- Косинцев П.А., Бачура О.П., Панов В.С. Бурый медведь (Ursus arctos L.) из святилища в Канинской пещере (Северный Урал) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 2. - С. 131-139.
- Косинцев П.А., Бачура О.П., Чаиркин С.Е., Мурыгин А.М. Медведь в пещерных святилищах Урала // V (XXI) Всерос. археол. съезд: сб. науч. тр. - Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2017. - С. 538.
- Лобанова Т.В. Археозоологическое исследование костных остатков тазовской литейной мастерской из раскопок 2012 г. // Археология севера России: от эпохи железа до Российской империи: мат-лы Всеросс. науч. археол. конф. - Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2013. -С. 324-327.
- Лобанова Т.В., Кардаш О.В. Костные остатки животных в ритуально-обрядовых комплексах Бородка Монкысь урий // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 2. - С. 140-148.
- Матвеев А.В., Костомаров В.М., Костомарова Ю.В. К характеристике хозяйственной деятельности носителей пахомовской культуры лесостепного Зауралья // Вести. Том. гос. ун-та. - 2009. - № 7. -С. 3-14.
- Матвеев А.В., Чикунова И.Ю. Поселение Ботники-1в на Нижней Исети // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 1999. - Вып. 2. - С. 44-50.
- Миддендорф А.Ф. Бараба. - СПб., 1871. - 123 с. -(Записки Императорской академии наук; т. 19, прил. № 2).
- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.
- Молодин В.И., Бобров В.В., Равнушкин В.Н. Айдашинская пещера. - Новосибирск: Наука, 1980. -208 с.
- Молодин В.И., Ефремова Н. С. Грот Куйлю - культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 264 с.
- Молодин В. И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Глиняная "погремушка" в виде головы медведя и варианты ее использования носителями кротовской культуры (эпоха бронзы, конец III тыс. до н.э., Барабинская лесостепь) // Вестник Том. гос. ун-та. Сер. История. -2017. - № 49. - С. 16-22.
- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 231-236.
- Молодин В.И., Октябрьская И.В., Чемякина М.А. Образ медведя в пластике западносибирских аборигенов эпохи неолита и бронзы // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. -С. 23-36.
- Мурыгин А.М Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место: докл. на заседании Президиума Коми филиала АН СССР. - Сыктывкар, 1984. - 52 с. - (Сер. препринтов "Научные доклады"; вып. 114).
- Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Медведь в культурах лесостепной и степной Евразии позднего бронзового века: основные аспекты знаковой нагрузки // Этнические взаимодействия на Южном Урале: сб. науч. тр. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. краевед. музея, 2015. - С. 46-51.
- Сидоров Е.А. Присваивающие виды хозяйственной деятельности населения лесостепного Приобья в I тыс. до н.э. // Экономика и общественный строй древних и средневековых племен Западной Сибири: сб. науч. тр. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ин-та, 1989. - С. 16-41.
- Сидоров Е.А., Новикова О.И. Неопубликованные материалы поселения Милованово-3 // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы: сб. науч. тр. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. - С. 104-124.
- Соколова З.П. Культ животных в религиях. - М.: Наука, 1972. - 215 с.
- Федорова Н.В. Иконография медведя в бронзовой пластике Западной Сибири (железный век) // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - С. 37-42.
- Хлобыстина М.Д. Говорящие камни. Сибирские мифы и археология. - Новосибирск: Наука, 1987. - 128 с.