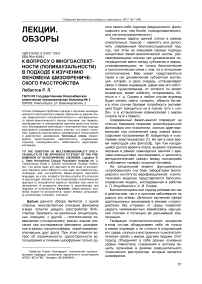К вопросу о многоаспектности (поликаузальности) в подходе к изучению феномена шизофренического расстройства
Автор: Лобастов Р.Л.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Лекции. Обзоры
Статья в выпуске: 1 (94), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме подхода к изучению шизофренического расстройства в рамках различных (в данном случае традиционного психоаналитического и нетрадиционного dasein-аналитического) языков описания, как правило, изолированных в повседневной практике врача или психолога. Исследование апеллирует к многоаспектному подходу расстройств шизофренического спектра, что может послужить развитию перспективных направлений в психотерапии и диагностики шизофрении.
Dasein-анализ, экзистенционал, шизотропность, "подменный" стрессор, поликаузальность, событийность, фрустрация, мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/14295970
IDR: 14295970 | УДК: 616.891:615.851:159.9
Текст научной статьи К вопросу о многоаспектности (поликаузальности) в подходе к изучению феномена шизофренического расстройства
ББК Р64+Ю953
К ВОПРОСУ О МНОГОАСПЕКТ-НОСТИ (ПОЛИКАУЗАЛЬНОСТИ) В ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Лобастов Р. Л.*
ГБУЗ НО Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3 630003, Новосибирск, ул. Владимировская, 2
Статья посвящена проблеме подхода к изучению шизофренического расстройства в рамках различных (в данном случае традиционного психоаналитического и нетрадиционного dasein-аналитического) языков описания, как правило, изолированных в повседневной практике врача или психолога. Исследование апеллирует к многоаспектному подходу расстройств шизофренического спектра, что может послужить развитию перспективных направлений в психотерапии и диагностики шизофрении. Ключевые слова : Dasein-анализ, экзистенционал, шизотропность, «подменный» стрессор, поликаузальность, событийность, фрустрация, мотивация.
TO THE QUESTION OF MULTIDIMENSIONALITY (POLYCAUSALITY) IN THE APPROACH TO STUDY OF THE PHENOMENON OF SCHIZOPHRENIC DISORDER. Lobastov R. L. State Novosibirsk Clinical Psychiatric Hospital no. 3. Vladimirskaya Street 2, 630003, Novosibirsk, Russian Federation. The article deals with approach to the study of schizophrenic disorders within different (in this case, the traditional psychoanalytic and non-traditional Dasein-analytic) description languages, as a rule, isolated in the daily practice of a physician or psychologist. Attention to the fundamentally multidimensional approach to schizophrenia spectrum disorders may serve for development of perspective directions in psychotherapy and diagnosis of schizophrenia. Keywords : Dasein-analysis, existential, tropism for schizophrenia, “switch” stressor, polycausality, eventfulness, frustration, motivation.
Целью данного обзора является, с одной стороны, многоаспектное описание феномена в виде попытки увидеть расстройства SHC-спектра, базируясь на различных концептуальных позициях, с другой – гипотетическое совмещение («со-единение») разных языков описания при исследовании феномена шизофрении в разных концептосферах, порой взаимоисключающих друг друга. При этом ставится вопрос об ограниченности, односторонности использования в лечении шизофрении только од- ного какого-либо подхода (медицинского, философского или, тем более, психодинамического, или «антипсихиатрического»).
Основные задачи данной статьи в рамках описательных тезисов – наметить или дополнить современный биопсихосоциальный подход, при этом не смешивая разные подходы концептами dasein-аналитической школы, рассматривающими психику как динамическое интеграционное звено между субъектом и миром, устанавливающими не только биологические и психологические связи с ним, но и отношения онтологические. Мир может представляться также и как динамическая субъектная инстанция, которая, в свою очередь, устанавливает связи с самим индивидом, давая ему его собственное существование, от которого он может отказаться, может избегать, игнорировать, бояться и т. д. Однако в любом случае индивид будет желать найти, потерять, обрести бытие, и в этом случае базовая потребность (мотивация) будет находиться не в поиске пути к «себе», а в установлении взаимосвязей с миром (поиске пути к Dasein).
Современный dasein-анализ оперирует не столько базовыми теориями экзистенциальной философии или психологии, сколько адаптированными под клинический свод знаний философскими построениями М. Хайдеггера и «системами экзистенциалов» [1]. Не зря в свое время немолодой уже философ, при том находящийся долгое время в опале, выразил огромное желание в рамках семинарских занятий с врачами-клиницистами синтезировать и заполнить методологический «зазор» между психиатрией и собственно «живой» психикой человека.
На сегодняшний момент функционально «опробованной» (на базе лаборатории Бехте-ревского института) верификационной, «синтетической» моделью представляется биопсихо-социальная модель, исследованная в работах А. П. Коцюбинского, А. И. Скорик.
Биопсихосоциальный подход релевантен как в диагностике, так и в прогнозе заболевания на разных его этапах. Детально изученная сфера адаптационных механизмов в режиме «стресс-диатеза» без «отрыва» от среды позволяет увидеть неимманентную взаимосвязь нарушений психики и потенцию её дальнейшей компенсации.
Генерация психопатологических процессов в этом случае обнаруживает себя не только в самом индивиде и не столько в окружающей его среде, сколько в выстроенных психопатологических связях с миром, другими людьми. Этот подход объединяет в себе разные основные уровни гомеостаза, сохранения и системы защиты организма в режиме разрушительного психического расстройства, которым является шизофрения.
Как нам кажется, он в себя не включает само существование индивида, его экзистенцию, его свободу или несвободу распорядиться своим существованием адекватно текущему моменту жизни.
В этом случае систему биопсихосоциальной модели можно было бы дополнить, например, идеями феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа. Другое дело, что такого рода массивный материал изучения во многом может быть не оправдан, если его использовать, опять же, в качестве отдельного языка описания.
В последнее время чаще попадаются работы отечественных исследователей (Е. Ю. За-вершнева, О. Власова), актуализирующие в рамках психиатрии, патопсихологии тему экзистенции в жизни отдельного человека. Безусловно то, что эти идеи не находят эмпирического применения не только из-за сложности или излишней абстрактности философского языка. Причина во многом банальна, например, в отсутствии переводов оригинальных текстов зарубежных исследователей. Основная работа М. Босса, посвященная dasein-анализу, так и не переведена, как и не переведены многие работы западных психиатров (В.-Э. фон Гебзаттель, Ю. Минковски, Э. Штраус и др.), использующих в своей практике идеи экзистенциальной психотерапевтической мысли.
На сегодняшний момент имеет место очевидный факт неоднозначности понимания шизофрении как нозологической единицы. Понятно, что данная болезнь выходит далеко за рамки одного лишь синдромального подхода, оттеняя целый массив эндогенных и различных ши-зотропных расстройств, если её рассматривать даже в системе клиники, что во многом требует полифункциональности психопатологической методологии.
Биопсихосоциальная модель привносит и как раз учитывает многоаспектный подход к изучению и диагностике шизофрении. Однако нам представляется необходимым учесть опыт феноменологии в понимании и раскрытии субъективного мира пациента, который дает уникальный материал для исследования.
Поликаузальность в отношении диагностики и понимания шизофрении может дать многостороннюю и одновременно объективную картину болезни, например, стрессовые события как индивидуально значимые и обусловливающие сильную позицию в жизни индивида, влияющие на патогенность болезни, как убедительно показывает А. П. Коцюбинский.
В данном аспекте рассмотрения стрессовые события, в том числе даже незначительные, могут быть определены и как причинные в ситуации конкретной человеческой психики.
«…Утверждение, что стрессовые события являются причиной этих состояний, является проблематичным и в рамках поликаузального заболевания, которым является шизофрения, вряд ли может быть когда-либо доказано» [7].
Стресс и психосоциальные факторы могут быть едва ли не основным морбидным этапом, включая биологические и психические. Тем более что психосоциальные стрессоры, как замечает А. П. Коцюбинский, «…сгущаясь перед манифестацией заболевания, действуют как фактор провокации начала болезни и выступают в роли своеобразных неспецифических триггеров, активизирующих механизмы экзацербации шизофренического процесса» [7].
Провокативность психосоциальных факторов может указывать на явления диссоциативных механизмов внутри личности и выступать, в этом случае, как узловые, рефлекторно фиксируемые моменты патологической связи окружающего мира и субъекта, что уже на начальном этапе может изменять по диссоциативному типу и затрагивать, например, базовые элементы личности. Другими словами, в ситуации стресса «уязвимая» психика, с одной стороны, запускает максимум адаптационных механизмов, а с другой – в «скрытом», еще не «развернутом» психопатологическом режиме диссоциирует мотивационно-личностные ресурсы. Поэтому на основании различных причин многие исследователи считают мотивационные нарушения при шизофрении «осевыми», затрагивающими высшие биологические и психические структуры организма. С «прорывами» всевозможных барьеров от адаптационных до гематоэнцефалических.
Провокативность «слабых» психосоциальных факторов может как раз указывать на скрытые явления диссоциативных механизмов внутри личности. В личностной конфигурации, целостность которой постепенно «расшатывается», генерируется все более «смещаемый» мотив её основной деятельности. Актуальность даже незначительного события становится неким ценностным «ответом» и отправной точкой для субъективного переживания. В жизни индивида эти события начинают играть как раз важную роль, механизмы психологических защит (МПЗ) в этом случае не могут откликаться на них как на угрозу и пропускают их в первую очередь как особо значимые стимулы для личности. Провокативность «слабых» психосоциальных факторов не редуцируется в этом случае адаптационными механизмами, «пропускная» способность даже для незначительных стрессоров оказывается высокой. В качество жизни индивида входит «событийность», созданная болезнью, буквально «прописываясь» не только в истории болезни, но и в истории жизни как ценностный личностный анамнез.
Подлинность существования как экзистенция не то чтобы нарушается, но игнорируется «болезнью», а в случае симбиоза с личностью игнорируется и личностью.
В этом смысле необходимо оговориться, что нарушение экзистенции при шизофреническом процессе не имеет симулятивной тенденции природы отказа и не исходит от самой личности, тем более сознательно. Индивид, как минимум, при определенных биопсихосоциальных условиях на этапе «отказа» от подлинных «переживаний мира» может испытывать страх, тревогу негативно пережитого опыта и других фрустрирующих обстоятельств, на которые не остается «внутренних», волевых усилий. Игнорирование личностью проблемных ситуаций, ситуативных болезненных состояний, исключение их из повседневного опыта на незначительном временном промежутке помогает личности «устоять», не подвергая сильному «раскачиванию» внутренних ресурсов личности. Однако длительная анестезация своего внутреннего мира задает границы ослабленной чувствительности на уровне высшего порядка, с нарушением связей между индивидом и средой.
При нарушении экзистенции происходит не столько даже подмена одного другим, сколько подмена реального мира ирреальным, что есть лишь патогномичные последствия. Происходит постепенная диссоциация между личностью и окружающей её «невыносимой» значимостью, которая не коррелирует, к примеру, с социальной идентификацией. «Затянувшаяся» ослабленная идентичность адаптируется уже на уровне слабых связей с миром, как бы постоянно декларируя «себя», напоминая о себе, что Она «есть» («я есмъ»), но уже на «языке» психопатологической реакции, состояния и т. п. Сама личность в этом случае вовсе не разрушается, но как бы «упраздняется», становится ненужной для данного модуса существования.
Собственно и психопатологическая деструкция когнитивных процессов при шизофрении, по крайней мере на начальных этапах болезни, их нарушает, но не аннигилирует полностью. Как при органических процессах, нет стадии распада нервных связей и истончения коркового вещества. Психологические процессы, интеллектуальная сфера не «распадаются» диффузно постепенно (или быстро), как при деменции, а как бы деактивируются на время шизоф-ренного процесса.
На место «упраздненной» личности приходит другая – болезненная, «дублированная», диссоциативная и т. д. В любом случае при ши-зофренном процессе, особенно на стадии дефекта, мы имеем дело с измененной (или полностью подмененной) личностью, и при «проникновении» психосоциальных стрессоров система МПЗ имеет дело уже с «ней».
Такого рода «двойник» не обязательно должен проявлять себя как при классическом случае диссоциативного личностного расстройства. Диссоциация как замена на «другую» патологическую личность может выражаться в дискретном виде, во всевозможных автоматизмах и симптоматически напоминать о «себе», к примеру, посредством вербальных галлюцинаций, на которых отдельно хотелось бы остановиться в более широком рассмотрении, но не в рамках данной статьи. Кратко проблему вербальных автоматизмов можно было бы наметить, используя идеи Л. С. Выготского о природе внутренней и внешней речи, в её связях с речевым и понятийным мышлением.
При шизофрении личность становится уязвима не от акцентуированных черт, так как может быть высоко развитой, но от всевозможных системообразующих болезнью «провокаций», нарушающих как биологические «барьеры», так и психические. На такого рода уязвимых участках усиливается их проницаемость (нарушается, если можно так сказать, пенетративность). Биологические ресурсы механизмов защит, в том числе иммунологических, и организация синхронности психологических процессов со стороны психики в этом случае не истощаются, но как бы деактивируются.
Со стороны некоторых психологических процессов, при шизофрении, например, уязвимой становится не только мыслительная деятельность, но и селективная функция внимания, как это отмечал Э. Крепелин, согласно чему активный канал внимания перегружается за счет нарушения непроизвольной селекции. Вместе с тем избирательность внимания в поиске основного стимула логично становится ограниченной. Узловые нарушения мыслительной деятельности при шизофрении, обнаруженные (и верифицируемые по сегодняшний день) московской школой экспериментальной психопатологии во главе с Б. В. Зейгарник, в этом случае предположительно также имеют асинхронную и пенетративную природу нарушений между отдельными функциями мышления и внимания. В виде атактивности (замыкания) или искажения операциональных функций, неравномерности динамических свойств, с одной стороны, и «смещения» мотивационно-личностных – с другой. В первом случае здесь задействована нейрокогнитивная сфера, во втором случае – эмоционально-волевая.
В заслуживающих внимания медицинских исследованиях о шизофрении обращают на себя внимание аутоиммунные теории. Так, в совместной работе томских исследователей А. В. Семке, Л. Д. Рахмазовой, О. А. Лобачевой, С. А. Ивановой, Е. В. Гуткевич «впервые установлено, что группа больных шизофренией с длительным течением заболевания и небла- гоприятным вариантом адаптации характеризуется более быстрым (по сравнению с психически здоровыми людьми) снижением антитело-образования» [15]. В рамках аутоиммунной теории были найдены нейрофизиологические особенности, обнаруживающие связь биологических маркеров и психосоциальных адаптационных факторов.
«Сравнительный анализ защитных иммунных механизмов и вариантов клиникосоциальных приспособительных возможностей 108 больных шизофренией показал, что на фоне сохранения общего профиля иммунопатологии при шизофрении глубина иммунных нарушений повышалась по мере снижения компенсаторно-приспособительных возможностей пациентов» [16].
Новосибирские исследователи основным патологическим звеном считают процесс различного рода уязвимости и нейронеустойчивости ЦНС, пусковым механизмом которого является прорыв гематоэнцефалического барьера. Аутоиммунная природа заболевания в данном случае задает предпосылки не только для поиска новых и более совершенных фармакоте-рапевтических средств, но и динамических (мультифакторных) подходов в патопсихологическом и психотерапевтическом рассмотрении.
Нет, наверное, смысла говорить о том, что относительно все открытые циркулярные и метаболические функции организма, в том числе на биологическом уровне, не имеют тотально замкнутых «цепей» и взаимодействуют между собой посредством нейрогуморальной регуляции. В этом плане психика не является только неким только информационным «фильтром», распределяющим и организующим через посредство ЦНС сигналы из внешнего мира. Путем организации и, что важно, синхронизации психологических процессов психика может отражать и объективировать внешнюю среду, создавать некий целостный эпизод действительности. А индивид уже через личностную картину мира может оценивать (в идеале интерпретировать), составлять для себя событийность в виде собственных субъективных представлений, сравнивать её с субъективностью других и т. п.
В этом смысле психика, взаимодействуя с личностью, имеет и обратную связь, когда уже личностно значимые стимулы и реакции воздействуют на психику, представляя ей материал для «новой» действительности (в плане патологической, меняя подлинность существования, на подмену этой подлинности). Любые внешние раздражители, в том числе спонтанные, трансформирующиеся в структуре личности в значимые стимулы, могут выполнять достаточно широкомасштабную интервенцию в психику.
Но значимые стимулы потому и значимые, что всегда имеют не только «заряженную» эмоциональную основу, но и ценностную «точку опоры» в мире (экзистенцию «Я в мире»), которая в ситуации болезни (особенно при ярко выраженной «смещенной» мотивации) может «подменяться».
За отсутствием мотивационной стратегии в мир больного входит возможность подмены экзистенции гиперболизированными сверхценными (мегаломаническими) образованиями или, наоборот, малозначимыми психосоциальными факторами. «Соотношение таково, что для развития заболевания бывает достаточным слабое накопление психосоциальных событий…» [7]. В момент такого критического накопления психосоциальных факторов без дополнительного «усиления» или неподкрепления их экзистенцией самого индивида адаптационные механизмы не то чтобы не срабатывают или истощаются, но как бы «не опознают» искусственно созданные стрессоры, именно как стрессоры. Они не распознаются МПЗ индивида или «опознаются», но не как «чужие» (являющиеся угрозой для психики). Что очень похоже на процесс аутоиммунного образования в контексте нарушения именно «биологического» барьера.
Нарушение барьеров психического и биологического, в результате чего ЦНС подвергается своего рода массивной «раскачке» в виде психоза, ведет к тому, что с каждым рецидивом адаптационные механизмы становятся все более проницаемыми (пенетративными) для незначительного стрессора («без наличия» в нем экзистенции). Логично, что в этом случае личность больного обрывает все социальные связи и по возможности «прячется», предпочитая уединенность (находится, если можно так сказать, в «экзистенциальном» аутизме), так как любой раздражитель, приходящий извне, становится крайне болезненным и невыносимым – это то, что М. Хайдеггер называл «пред-стоянием перед Ничто». Такого рода «пред-стояние» в ситуации коротких ремиссий в жизни больного становится постоянностью.
В свою очередь, на критической точке накопления слабые психосоциальные факторы, как «подмененные» стрессоры, со временем наполняются содержанием и со стороны искаженных личностно значимых стимулов. Для личности психоз становится не только болезненным образованием и развитием самой болезни, но и единственной ценностью, на которую «работают» и личностные ресурсы, и психика в целом. Вопрос здесь состоит не в том, что происходит какая-либо симуляция, на этот счет многие исследователи в рамках «антипсихиатрии» дают много умозрительных сведений и изысканий.
Больной, конечно, не симулирует, но его личность в меру множества различных биопси-хосоциальных причин инволюционирует в систему более сложного болезненного тропизма (постепенно «отказывается» от «собственной экзистенции» и, таким образом, от «себя»).
Если вкратце очертить вопросы эмпирической тематики в рамках вышеописанных тезисных замечаний, то уровень экзистенции, конечно, можно попробовать посчитать, сделать качественный анализ количественных данных, например, на основе существующих опросников – шкала экзистенции Ленгле (на данный момент, возможно, есть и другие). Дело может заключаться в том, что уровень экзистенции можно выявить и через существующие валиди-зированные клинические методики (из Бехте-ревского опросника параноидной шизофрении, в рамках некоторых вопросов, на которые испытуемый дает ответ «да» или «нет», можно получить качественную характеристику, например, переживаемого им времени, или настроенности, особой чувствительности к переживаемому пространству и т. д.).
Так или иначе в рамках практического применения семь выделенных Боссом экзистен-циалов могут на разных уровнях корреляции оттенять степень выраженности нарушенной экзистенциальной связи, провоцирующей психическую патогенность. В той или иной степени психические возможности совместно со сложившимися личностными установками могут проявляться в недостаточной или «слабой» связи с миром через тот или иной экзистенци-ал. Например, с телесностью коррелируют соматические и психосоматические проблемы. Эмоционально-волевые редукции, выявляемые с помощью аффективных шкал и личностных профилей, могут коррелировать с «угасанием» экзистенциала настроенности.
Исходя из размышлений самого Босса, шизофренические расстройства имеют разнообразную природу ослабления «переживаемого» времени (темпоральности). В этом плане не просто интересной, но достаточно информативной может быть шкала «переживаемого» времени Ю. Минковски, выделившего следующие зоны переживаемого времени (не имеющие, однако, ничего общего с хронологическим временем). «…Удаленное прошлое – зона устаревшего; среднее прошлое – зона сожалений; ближайшее прошлое – зона раскаяний; настоящее; ближайшее будущее – зона ожиданий и деятельности; среднее будущее – зона желаний и надежд; удаленное будущее («горизонт» ожиданий) – зона молитвы и этических действий» [20].
В данном случае имеет место субъективность переживаемого времени, и определенная по этому поводу психокоррекционная интер- венция дает актуализацию и понимание феномена времени не как «пустой» абстрактной величины, но как модели для формирования значимых стимулов в отношении к нему. В жизни больного шизофренией и так весь мир, включая экзистенциал пространственности, заполнен абстрактными, не связанными между собой величинами. Поэтому даже незначительная актуализация значимости этого даже патологического мира, причем не для самой уже измененной личности, а для её деятельности во внешних поведенческих появлениях, может способствовать формированию более или менее устойчивого социального паттерна. Данный паттерн, не разрушая уже сложившееся патогенное дезадаптационное поведение и не «углубляя» границы субъективного мира, формирует как минимум оценочное модальное отношение к чему-либо, к кому-либо. В этом случае мы в каждом из экзистенциалов, со слов Босса, «высвечиваем» путь к dasein, по возможности, все более «при-открывая» для индивида новый уровень качества его жизни.
Традиционно в современных в исследованиях (Б. Б. Фурсов, М. М. Коченов, В. В. Николаева и др.) нарушение мотивационного ядра личности рассматривается как неотъемлемое специфическое развитие патогенности болезни. Во многом это оправданно, потому что, наверное, даже не важен факт первичности или вторично-сти нарушения мотивационно-личностного звена при шизофреническом процессе, сколько важен факт «нарастающего» эмоционального опустошения и смещения на этом фоне личностно значимых стимулов до глубоко субъективных, «разорванных» отношений с миром, что, собственно, во многом совпадает и с нарушением существования, ощущением или сомнением в подлинности своего Я или Я других. Другими словами, «уходит» не только смысл существования как следствие, но и его подлинность.
На начальном этапе угасания мотивационных ресурсов можно сказать, что подвергается сомнению вообще легитимность бытия, что, в свою очередь, подкрепляется стрессовыми психосоциальными факторами и нарастающей в дальнейшем декомпенсацией на всех уровнях психической интеграции организма.
Кратко комментируя некоторые идеи современной dasein-аналитики, представленные в работах зарубежных авторов (М. Босс, Л. Бинсвангер, Алис Хольцхей-Кунц, Иоганн Рек), можно сказать, что нарушение экзистенции ведет не столько к утрате смысла существования, сколько к потере пути к Dasein (т. е. утрате актуальных «подлинных» связей с миром и формированию патологических «виртуальных» связей с субъективным миром, искусственно создаваемых болезненным сознанием).
Выпадение всевозможных связей с действительностью, из которой личность индивида различными способами стремится выйти по разным причинам, включая стрессовые события, не только подменяет эту действительность все более «углубляющимися» субъективными связями. Но в свою очередь и мир – как модус существования, как окружающая среда обитания тоже «стремится поддержать», сохранить с психикой индивида хотя бы тот гомеостаз, или «метаболический информационный обмен» – по определению А. Кемпинского, который «выбран» личностью.
В этом случае предположительно запускается другой уровень взаимодействия с действительностью. С одной стороны, индивид от нее отчуждается, с другой – творит параллельную псевдодействительность, которая также поддерживается с «обеих» сторон: и субъектом, и его окружающим миром. С одной стороны, внешняя среда остается «чужой», а взаимодействие с ней происходит на психосоциальном уровне, с другой стороны, дает материал для содержания аутичного мира индивида, который все более становится проницаемым, а в сознании субъекта «наполняется» искаженными «странными объектами» [13].
Предположительно, что в связи с отсутствием гомеостатической целесообразности психика со стороны биологических и психологических интеграционных механизмов «обрабатывает» событийность как бы не полной мере, деактивируя синхронность психологических процессов, привнося тем самым психопатологическую процессуальность.
Возможным следствием, имеющим вторичную природу патологического образования по отношению к мышлению, вниманию, является искажение уровней восприятия с наличием продуцирования автоматизмов. Вторичность симптоматики нарушенного восприятия, в этом случае по отношению к вниманию и мышлению, играет уже выраженную социальную роль, которая проецируется в окружение больного, что не совпадает по времени с эндогенной симптоматикой (как правило, скрытой от окружения), в результате которой задействован весь «арсенал» проникающего воздействия болезни в психику индивида. Здесь в латентном режиме, без видимых нарушений как бы «отключаются» поэтапно сначала низшие, рефлекторные производные психологических процессов (автоматизмы, кататонические реакции). Затем отсоединяются высшие на уровне «расслоения», к примеру, внутренней и внешней речи. На «оси» низших нарушений «переформатируются» основные узлы высших психологических процессов: внимания (по Э. Крепелину с «истончением» объема, именно непроизвольного); мышления в виде атактических проявлений
(шперрунги, тахифрении), операциональной лабильности (скачки от конкретности до гиперабстрактности); мотивационных «сбоев», рассмотрение которых требует более детального изучения.
Поскольку мотивационные компоненты, скорее всего, эволюционно являются уровнем более высшего порядка, то по отношению к мышлению, к эмоциональной сфере возможно задействование их ресурсов для «самоопределения» главенствующей программы. «Мотивация и мышление – близкие по механизму процессы, с той, однако, разницей, что мотивация отбирает программу по интенсивности эмоциональной окраски программы. Мышление в меньшей степени зависимо от сопровождающего программу эмоционального заряда. Мотивация – адаптивный, направленный в будущее, динамический процесс выбора наиболее эмоционально насыщенной программы из прошлого опыта разрешения подобных ситуаций. Победившая программа по описанным законам работы мозга (известным как доминанта Ухтомского) отбрасывает все конкурирующие программы и втягивает в себя все похожие, близкие по значению программы. Иногда процесс идет вплоть до потери обратной связи, именуемой критикой, и достигает стадии формирования сверхценной идеи» [9].
Что касается стимулов экзистенциального порядка, которые, как нам кажется, коррелируют именно с мотивационным модусом существования, то «угасание», к примеру, экзистен-циала «настроенности на бытие» (М. Босс), негативно коррелирует с нарушением целенаправленности мышления и внимания (в клинике это потеря целенаправленности и критики мышления). Что касается эмпирического применения, то, к примеру, корреляцию уровня экзистенции как направленной мотивации можно соотнести с первичными парциальными нарушениями психологических процессов внимания и мышления. На этом фоне представляется возможным спрогнозировать диагностические критерии и психокоррекционные программы.
В рамках негативной взаимосвязи «смещенных» личностно-значимых мотивационных образований и уровня основных процессов, подвергающих через уязвимую личность патогенной атаке (внимание и мышление), возможна попытка их «перекодирования» в рамках актуализации экзистенции больного, где его патологический мир не будет исключен из нормативного (повседневного) психосоциального события, но «вписан» в него с позиции, к примеру, приобретенного опыта (как правило, негативного). Но для того чтобы почувствовать ценность повседневности бытия, которая (не только при шизофрении) находится в дефиците, нужно по-другому «озвучить» и негативный опыт индиви- да, увидеть в нем предпосылки для поиска экзистенции. В этом случае пережитый негативный опыт как раз ближе всего к границе актуализации его – сущности. А в статусе сущности заключается возможность нециклического повторения то же опыта (но без «привычного» рецидива), и осознания его, в виде законченного гештальта. Проблема состоит в том, что всегда появится другой, незаконченный гештальт, но ведь существование всегда «открыто», трансцендентно субъекту и миру, в этом и заключается его генерирующая сущность. К Dasein невозможно прийти, можно лишь увидеть «высвеченный» или, наоборот, «затемненный» индивидуальный путь к нему.
Описывать нарушения экзистенции при шизофрении в рамках клиники представляется не совсем целесообразным в описательной диагностике (речь идет не о том, чтобы писать длинные, хотя и крайне интересные заключения в духе Л. Бинсвангера). Вопрос может быть в том, чтобы уметь их применить в ситуации дискурсивного осмысления, в результате чего объект изучения, диагностического описания, а в дальнейшем психокоррекционного воздействия может быть осмыслен в разных языках описания. В результате чего объективность данных может быть более «рельефной» и неодносторонней, а уж тем более неформальной.
На сегодня результат лабораторных исследований в этой области пока остается в рамках еще не написанной, пока детально не изученной и не систематизированной, проделанной эмпирической работы, что не дает возможности получить четкие верификационные данные. Но в перспективе может задавать предпосылки для этого. В диагностике это поможет выявить степень выраженности, к примеру, корреляции уровня экзистенции и психопатологических нарушений. В психотерапии поможет спрогнозировать и точнее локализовать уязвимые места в сфере личностно-мотивационных ресурсов. В психокоррекции, посредством актуализации экзистенции пациента, будет способствовать повышению длительности ремиссионного этапа. В любом случае, результаты как минимум не могут противоречить и биопсихосоциальной модели изучения, но лишь дополнять её. При этом, как замечает отечественный исследователь в области феноменологической психиатрии: «…философское не синонимично теоретическому и онтологическому, а клиническое – онтическому и практическому. Все эти составляющие открывают различные перспективы, в горизонте которых высвечиваются различные исследовательские пространства и феномены…. Философские проблемы экзистенциально-феноменологической психиатрии конкретизированы в клинике и никогда не артикулируются в отрыве от нее… Не только философия вторгается в клинику, но и клиника в философию, причем как в качестве теории, так и в качестве практики» [3].
Такого рода коммуникатологическое «вторжение» необходимо, по возможности, использовать осторожно, так как, с одной стороны, оно позволяет охватить большее количество объектов для изучения, с другой – есть риск неограниченного расширения теоретических границ, создающих определенные систематические трудности (как то квалифицировать уже описанный и пока ещё неоткрытый опыт).
Список литературы К вопросу о многоаспектности (поликаузальности) в подходе к изучению феномена шизофренического расстройства
- Boss M. Psychoanalysis and Daseins-analysis. -N. Y, 1963.
- Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. -3-е изд. -СПб., 2008.
- Власова О. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: История, мыслители, проблемы. -М., 2010.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений. -В 6 т. -М., 1983.
- Завершнева Е. Ю. Нарушения экзистенции при шизофрении//Московский психотерапевтический журнал. -2005. -№ 1. -С. 65-89.
- Кемпинский А. Психология шизофрении. -СПб., 1998.
- Коцюбинский А.П. Шизофрения: уязвимость -диатез -стресс -заболевание. -СПб., 2004.
- Коченов М.М., Николаева Н.Н. Мотивация при шизофрении/изд. Московского университета. 1978//Медицинский журнал. -2012. -№ 1. -С. 8-14.
- Новосибирский НИИ иммунологии СО РАМН и Клиника патологии высшей нервной деятельности. Шизофрения: новый метод лечения (интернет ресурс: http://schizophrenia8.ru).
- Психиатрия. Справочник практического врача/под ред. А.Г. Гофмана. -М., 2010.
- Психиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов/М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. -4-е изд. -М., 2008.
- Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. -М., 2010.
- Руднев В.П. Полифоническое тело: Реальность и шизофрения в культуре XX века. -М., 2010.
- Скрипка Е.Ю. Исследования нарушений познавательных процессов при шизофрении в клинической психологии//Молодой ученый. -2011. -№ 11, Т. 2. -С. 107-110 (интернет ресурс: http://www.moluch.ru/archive/34/3873/).
- Семке А.В., Ветлугина Т.П., Иванова С.А., Рахмазова Л.Д., Гуткевич Е.В., Лобачева О.А., Корнетова Е.Г. Биопсихосоциальные основы и адаптационно-компенсаторные механизмы шизофрении в регионе Сибири//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2009. -№ 5 (56). -С. 15-20.
- Семке А.В., Ветлугина Т.П., Рахмазова Л. Д., Иванова С.А., Счастный Е.Д., Федоренко О.Ю., Лобачева О.А., Гуткевич Е.В., Корнетова Е.Г., Даниленко О.А. Биологические и клинико-социальные механизмы развития шизофрении (итоги комплексной темы НИР ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, 2009-2012 гг.)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 4. -С. 18-26.
- Учебник психиатрии для врачей и студентов. -СПб: Издание А.А. Карцева, 1910. (интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Библиография_Эмиля_Крепелина)
- Фурсов Б.Б. Проблема мотивации и её нарушений при шизофрении//Социальная и клиническая психиатрия. -2012. -№ 4 (22). -С. 91-100.
- Хайдеггер М. Бытие и время. -М., 2011.
- Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Протоколы -Беседы -Письма. Издано М. Боссом. -Вильнюс, 2012.
- Херсонский Б.Г. Клиническая психодиагностика мышления. -2-е изд. -М. 2014.
- Экзистенциальная психология. Экзистенция/под ред. Р. Мэя. М. 2001.