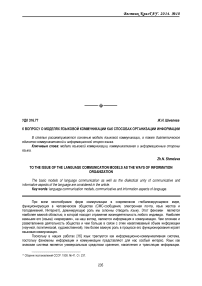К вопросу о моделях языковой коммуникации как способах организации информации
Автор: Шмелева Ж.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: История и культурология
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные модели языковой коммуникации, а также диалектическое единство коммуникативной и информационной сторон языка.
Модели языковой коммуникации, коммуникативная и информационные стороны языка
Короткий адрес: https://sciup.org/14083374
IDR: 14083374 | УДК: 316.77
Текст научной статьи К вопросу о моделях языковой коммуникации как способах организации информации
Поскольку в наших работах [16] язык трактуется как информационно-коммуникативная система, постольку феномены информации и коммуникации представляют для нас особый интерес. Язык как знаковая система является универсальным средством хранения, накопления и трансляции информации.
17 Сборник постановлений СССР. 1938. № 41. Ст. 237.
Информация – сообщение, является некоторой совокупностью знаков и их значений. Нас интересует, как и в каких формах информация реализует и выражает себя в языке и почему мы можем назвать язык информационной системой. Различные формы организации информации – это различные формы выражения мысли. Мы можем сказать, что слово (понятие) в языке является структурной единицей информации. Понятие информации является основополагающим почти для всех сфер человеческой деятельности.
Интерпретация феномена «информация» прошла существенную эволюцию. Первоначальное (донаучное) представление об информации сложилось в сфере обыденного языка на основе повседневнобытовой социально-коммуникативной практики. Согласно данному пониманию, информация – это сообщения или сведения, которыми люди обмениваются между собой в процессе общения. К середине ХХ века, с появлением науки кибернетики и экстраполяции ее закономерностей на все классы систем, в том числе и социальных, сложилась ситуация, когда информация становится сугубо научным понятием. Поэтому теория информации – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей современного научного знания, проникающая во многие науки о неживой и живой природе, обществе, познании. Дискуссия о природе и сущности информации, в ходе которой был рассмотрен широкий комплекс категорий и принципов, послужила основой для разработки общей теории информации, которая, по предложению Э.П.Семенюка и В.И.Сифорова, получила название информологии [11]. Информология мыслилась как наука об информации, как наука о законах передачи, распределения, обработки и преобразования информации.
Основные методологические подходы, сложившиеся к определению информации, включают в себя математические (количественные), программно-алгоритмические (атрибутивные), отражающие качественные характеристики информации. По мнению В.Ю.Колмакова, принцип фундаментального осмысления феномена информации проявляется в любой методологической среде философского мышления как требование проведения логической операции, направленной на выявление общего смыслового основания, на котором происходит дальнейшее построение конкретизированных следствий [7]. Согласно К.Шеннону, информация может оцениваться как степень упорядоченности или организованности систем, как отрицательная энтропия или негэнтропия [15, с.153 ].
С нашей точки зрения, понимание информации немыслимо без обращения к коммуникации. Любое исследование как языка, так и информации опирается на ту или иную модель коммуникации.
Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ века. Коммуникацией в философской и психологической литературе называют передачу информации как в животном мире (в данном случае употребляется термин «биокоммуникация»), так и в человеческом обществе, а также от одного технического устройства к другому [6, 14]. Слово «коммуникация» восходит к латинскому корню, который имеет значение «совместный, объединяющий, общий, взаимный, обоюдный». Отсюда можно сделать вывод, что коммуникация как необходимый элемент взаимодействия индивидов предполагает обмен знаниями, информацией, ценностями, оценками, значениями, смыслами.
Н.Т.Казакова справедливо полагает, что анализ феноменологических оснований проблемы человеческого общения и коммуникации имеет не только опосредованно теоретическое, но и непосредственно практическое значение [5, с.34–135 ]. Можно сказать, что без адекватного понимания содержания понятий «общение» и «коммуникация» невозможно исследовать развитие и функционирование человеческого общества, личности в целом, и в языке в частности. Мы полагаем, что без языковой коммуникации невозможно конституирование социальных общностей, систем, институтов, а также существование социума как такового, поскольку она (коммуникация) пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов, поэтому настолько важным и актуальным является исследование сущности коммуникации и ее моделей.
Существует большое количество определений коммуникации и общения. Скажем, в словаре «Современная западная социология» понятие коммуникации толкуется как: 1) средство связи любых объектов материального и духовного мира; 2) общение, передача информации от человека к человеку; 3) общение и обмен информацией в обществе [12, с.131]. В философском энциклопедическом словаре общение рассматривается как процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ, субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности [14, с.447]. Оно является одним из необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности. Все перечисленные характеристики этого феномена актуализируются исключительно посредством языковой формы обобщения. По мнению Н.Т.Казаковой, исторически доказанным является факт, что человеческое развитие начиналось с невербального общения, но сам процесс закрепления «человеческого» в человеке связан с возникновением и развитием языка как средства общения [5, с. 136]. Другими словами, именно язык передает все то, что не может быть передано по биокоду, и поэтому коммуникативная сторона общения наиболее адекватно проявляется в языке.
Любое исследование языка опирается на ту или иную модель коммуникации. В лингвистике первую такую модель построил Р.О.Якобсон, испытавший значительное влияние идей К.Шеннона по теории информации. В его (Якобсона Р.О.) информационно-кодовой модели коммуникации участвуют адресант и адресат, от первого ко второму направляется сообщение, которое написано с помощью кода, контекст в данной модели связан с содержанием сообщения, с информацией, им передаваемой, понятие контакта связано с регулятивным аспектом коммуникации [17, с. 306–318 ; 18, с.319–330 ].
Такая модель и взгляд на языковую коммуникацию основаны на двух тезисах: во-первых, каждый национальный язык (русский, немецкий, английский, французский, украинский, болгарский) является определенным кодом; во-вторых, эти коды соотносят мысли и звуки [9, с.34 ]. Данная модель своей основой имеет примитивную интерсубъективность, а целью коммуникации является общая мысль или сообщение. Процесс достижения этой цели основан на существовании общего кода, идентичных языковых знаний. Модель Р.О.Якобсона и ее разнообразные варианты применяются в лингвистике как для анализа функций языка в целом, так и для анализа функционирования его отдельных единиц, производства речи и текста в частности. Однако, на наш взгляд, информационно-кодовая модель не способна дать вполне адекватное описание реальных процессов коммуникации в разнообразных естественных языках, поскольку понимание предполагает нечто большее, чем просто процесс декодирования акустических сигналов. А.Акмайан, Р.Демерс, А.Фармер и Р.Харниш называют такую модель «моделью сообщения» (“message model”) [1, с.305 ] и приводят следующие аргументы в пользу ее несовершенства. Во-первых, эта модель представляет процесс коммуникации как просто производство, слушание и понимание выражений, в ней пропущена существенная составляющая – интенции говорящего. Во-вторых, выражения речи часто являются двусмысленными, и реципиент должен точно знать, какой смысл был заложен собеседником. В-третьих, мы не всегда говорим буквально, имея в виду совсем не то, что означают слова (ирония, сарказм, метафора). В-четвертых, мы иногда передаем больше, чем означает предложение. Например, говоря технику: «У меня спустило колесо», мы тем самым просим его устранить неполадку, хотя предложение выражало лишь состояние машины [1, с.312–313 ]. Коммуникация, по мнению вышеуказанных авторов, успешна лишь тогда, когда слушатель способен распознать интенции говорящего [1, с.314–315 ]. Эвристическая ценность информационно-кодовой модели ограничена семиотическими подходами в изучении языка, и ее слабость сказывается при семантико-прагматическом подходе к изучению процессов коммуникации.
В связи с этим выделяют также инференционную (от англ. inferential – подразумеваемый, выведенный путем заключения) и интеракционную модель коммуникации [9, с.35–40 ]. В инференционной модели интерсубъективность играет главную роль. Если в информационно-кодовой модели говорящий намеренно отправлял слушающему некую мысль, то в инференционной говорящий субъект, вкладывая свой смысл, демонстрирует свои интенции [13, с.136–137 ]. Процесс коммуникации инициируется не желанием индивида передать мысль или определенную информацию, а его желанием сделать свои интенции понятными другим. Речевыми средствами для выражения интенций являются высказывания. Содержание высказываний не ограничено репрезентативными сообщениями о состоянии дел (как в информационно-кодовой модели), а может содержать экстралингвистические факторы, например эмоции. Хотя интенции сами по себе не пропозициональны (они скорее схожи с установками и мотивами), содержание высказываний таковым является. Интенции определяют, каким образом должно быть интерпретировано то или иное пропозициональное содержание. А.Акмайан, Р.Демерс, А.Фармер и Р.Харниш говорят о разделяемых презумпциях и инференционных стратегиях как об основе успешной лингвистической коммуникации. К ним относятся: лингвистическая презумпция, коммуникативная презумпция, презумпции буквальности, релевантности, искренности, правдивости, качества и количества [1, с.316 ].
Интеракционная модель коммуникации в качестве базисного принципа рассматривает взаимодействие в рамках социально-культурной ситуации. Система норм социального поведения выступает как основа языковой коммуникации. Природа (транс)формации смыслов в общении объясняется не языковыми структурами кода, а коммуникативно-обусловленной социальной практикой [2, с.398–405 ]. В центр данной модели помещаются аспекты коммуникации как поведения. Коммуникация происходит не просто как трансляция информации или манифестация намерения, а как демонстрация смыслов, причем они вовсе не обязательно инициированы и предназначены для интерпретации реципиентом. Любое поведение, действие, молчание, отсутствие действия, покраснение лица, дрожание рук в определенной ситуации могут оказаться коммуникативно значимыми. Следовательно, пока индивид находится в ситуации общения
(т.е. наблюдаем другим индивидом), он независимо от собственного желания демонстрирует смыслы. Активности воспринимающего человека отводится важная роль, поскольку без со-участия коммуникантов в едином процессе демонстрации смыслов, и особенно их интерпретации (которой отводится роль критерия успешности и главного предназначения коммуникативного акта), не могли бы состояться ни общение, ни совместная деятельность [9, с.39 ]. Целью данной интерпретации смыслов, происходящей в процессе постоянных «переговоров», гибкой диалектики коллективного осмысления социальной действительности является достижение интерсубъективности (психологического или феноменологического переживания общности мыслей, интересов, эмоций, ощущений, действий). Эта интерсубъективность (общность) является динамическим образованием, находящимся в постоянном движении, изменении, и часть коммуникативной работы всегда направлена на ее воспроизводство, достижение и поддержание в каждом новом коммуникативном акте. В интеракционной модели коммуникации можно наблюдать сильную ситуативную привязанность, что выражается в учете экстралингвистических факторов коммуникации и деятельности в целом, в использовании широкого социокультурного контекста. Исследователь имеет дело с «фоновыми знаниями», которые конвенциональны по своей природе, но далеки от уровня алгоритмизации языкового кода. Роль общих значений в интеракционной модели остается довольно высокой, в то время как зависимость от кода значительно снижается по сравнению с информационно-кодовой моделью. Нам представляется, что интеракционная модель более адекватно отражает суть процесса коммуникации, если признать приоритет коммуникации по отношению к информации.
Моделирование коммуникации всегда связано с прагматическим аспектом, поскольку неизбежен взгляд на коммуникацию с точки зрения ее главного участника - человека. Знание языковой системы (например, правил языка) - это только одна из предпосылок успешности языковой коммуникации; другая предпосылка состоит в наличии достаточно автоматизированных стратегий и механизмов производства и переработки выражений, построенных в соответствии с этой системой [4, с.197–222 ]. Интересным в свете всего вышесказанного видится рассмотрение Т.А.Ван Дейком понятий «прагматического контекста» и «прагматического понимания» [3, с.12–41 ]. По его мнению, прагматическое понимание представляет собой некую последовательность процессов, содержанием которых является приписывание высказываниям участниками коммуникации особых конвенциональных сущностей - иллокутивных сил [3, с.14-15] . Информация может поступать из различных источников и по разным каналам. Во-первых, это грамматические структуры высказывания, которые задаются правилами. Во-вторых, паралингвистические характеристики (например, жесты, мимика, темп речи, ударение, интонация); коммуникация часто бывает удачной именно потому, что вербальной и невербальной ее формами можно пользоваться одновременно, по ходу основного сообщения. В-третьих, это знания и мнения о говорящем, об особенностях данной и предыдущей коммуникативной ситуации, знания общего характера (например, конвенциональные правила о взаимодействии), а также общие знания о мире. Успешность коммуникации наиболее вероятна, когда общающиеся стороны в конкретном контексте обладают одинаковым набором прагматических презумпций, оказывающим решающее влияние на формулировку высказываний, а следовательно, и на их интерпретацию.
Возникает следующий вопрос: не можем ли мы ошибаться в выборе интерпретации речевого акта? Ведь смыслы, которые индивид приписывает объектам понимания, он черпает из своего индивидуального внутреннего сознания, которое формируется на основе языка и чувственных впечатлений. Каждый человек придает высказываниям и вещам свой собственный индивидуальный смысл, свою собственную интерпретацию. К этой проблеме обращался и знаменитый философ-лингвист В.Гумбольдт, говоря о парадоксах понимания и непонимания в процессе общения. Каким образом вербальная коммуникация становится возможной, как согласуется это разнообразие интерпретаций с тем фактом, что люди, тем не менее, понимают друг друга, действуют совместно и способны прийти к общему мнению?
Разумной видится точка зрения А.Л.Никифорова о том, что ответ на этот вопрос необходимо искать в анализе природы индивидуального смыслового контекста или духовного мира личности [10, с.86 ]. Другими словами, при всей индивидуальной неповторимости «индивидуальный смысловой контекст» имеет нечто общее со смысловым контекстами других индивидов. Этот общий, совокупный контекст представляет собой отражение объективной реальности, т.е. того мира, в котором мы живем. А поскольку этот мир является общим, одним на всех, то индивидуальные контексты разных людей, отражая этот объективный мир, должны быть сходны между собой. Помимо этого, все мы являемся членами одного социума, одной культурной среды. В детстве мы овладеваем языком, который является средством трансляции культуры и духовных ценностей, мы учимся наделять слова и предложения примерно одинаковым смыслом, т.е. тем, который принят в данное время в конкретном обществе.
Коммуникация получает определяющую роль там, где она выступает не просто как процесс обмена между переработчиками информации, а как конститутивный фактор поведения и деятельности человека и общества [9, с.40 ], то, что Ю.Хабермас называл коммуникативным действием. В нашем случае коммуникативное действие превращается в процесс социального взаимодействия субъектов общественного бытия и общественного сознания. Оговоримся, что доминирующее значение одного по отношению к другому имеет условный и относительный характер. Важнее то, что по закону диалектического синтеза возникает информационно-коммуникативная среда, которая выступает тем социальным пространством, где языковой опыт, приобретая структурность, связность, цельность, наполняется значением и смыслом. Информационные средства становятся частью общения, а их значимость находится не в отношении к другим информационным средствам, а в отношении к другим коммуникативным средствам. По мнению М.Л.Макарова, информационные средства являются идеологическими, дискурсивными реализациями и «играют конститутивную роль в коммуникации, создавая иллюзию единственного познаваемого мира … и способствуют познанию предположительно независимой от самого общения действительности» [9, с.40 ].
Таким образом, рассматривая модели коммуникации и взаимосвязь информационного и коммуникативного аспектов языка, мы не склонны отдавать приоритет ни информации, ни коммуникации, а постулируем диалектическое единство, взаимосвязь и взаимопроникновение информационных и коммуникативных сторон в языке.
Основой диалектизации информации и коммуникации, с нашей точки зрения, как раз и выступает способность к взаимопереходу и взаимопроникновению. В том случае, когда главная роль отводится информации, поскольку именно она служит формой репрезентации действительности, в информационной реальности, где развертывается взаимодействие между субъектом и объектом, возникает коммуникативное пространство. Информация замещает мир вещей и таким образом сама приобретает некую коммуникативную направленность, ценность которой возрастает по мере того, как она позволяет социальным субъектам не только освоить реальность, но и реорганизовать социальный опыт. Коммуникация, в свою очередь, выполняет роль «ратификации» репрезентаций в качестве информации, обеспечивающей ее (информации) передачу. Коммуникация может превращаться также в инструмент «наклейки ярлычков» на социальных субъектов и на объекты окружающей действительности, дающий доступ к информации и осуществлению субъектами своих прав владения и распоряжения ею. Информация получает приоритет по отношению к коммуникации тогда, когда наделяется способностью когнитивно запечатлевать особенности таких миров, как объективная реальность, субъективная реальность, виртуальная реальность.