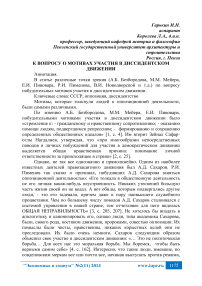К вопросу о мотивах участия в диссидентском движении
Автор: Гарькин И.Н., Королева Л.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье различные точки зрения (А.Б. Безбородова, М.М. Мейера, Е.И. Пивовара, Р.И. Пименова, В.И. Новодворской и т.д.) по вопросу побудительных мотивов участия в диссидентском движении.
Ссср, оппозиция, диссидентство
Короткий адрес: https://sciup.org/140107098
IDR: 140107098
Текст научной статьи К вопросу о мотивах участия в диссидентском движении
Мотивы, которые толкнули людей к оппозиционной деятельности, были самыми различными.
По мнению А.Б. Безбородова, М.М. Мейера, Е.И. Пивовара, побудительными мотивами участия в диссидентском движении было «стремление к: - гражданскому и нравственному сопротивлению; - оказанию помощи людям, подвергшимся репрессиям; - формированию и сохранению определенных общественных идеалов» [1, с. 4]. Им вторит Зейнал Сафар-оглы Нагдалиев, утверждая, что «при многообразии непосредственных поводов и личных побуждений для участия в демократическом движении выделяется общая нравственная причина: понимание личной ответственности за происходящее в стране» [2, с. 25].
Однако, не так все однозначно и прямолинейно. Одним из наиболее известных деятелей правозащитного движения был А.Д. Сахаров. Р.И. Пименов так сказал о причинах, побудивших А.Д. Сахарова заняться оппозиционной деятельностью: «Его толкала в общественную деятельность не его личная какая-нибудь неустроенность. Никаких утеснений большую часть жизни своей он не ведал. А вот обиды, которым подвергались другие люди, - это его задевало, причем даже в пору наивысшего служебного процветания. Чем по большему числу поводов А.Д. Сахаров сталкивался с системой управления в нашей стране, тем отчетливее для него виделась ОБЩАЯ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ» [3, с. 205, 207]. Не хотелось бы впадать в апологетику и канонизировать его, однако люди, типа академика Сахарова, были, своего рода, костяком движения, пророками, совестью оппозиции. Их помыслы были чисты, нравственны, никаких корыстных целей они не преследовали. Их было очень немного. Сахаров следующим образом объяснил свое участие в диссидентском движении: «… Это не политическая борьба… Для всех нас это моральная борьба. Мы боремся, чтобы быть верными самим себе» [4, с. 162]. Интересно, что такие люди, имевшие, по совдеповским меркам все или почти все, начиная выступать против режима, давшего им это, вызывали у основной массы населения не только чувство непонимания, но даже и ненависти, выражая свое отношение к ним: «С жиру бесятся!». Конечно, порою, они выступали орудием в руках людей нечистоплотных, но порядочные люди часто бывают «близорукими».
Другая категория диссидентов, также достаточно малочисленная - так называемые «местные правдоискатели, «чудаки» [5, с. 168]. Иногда их «чудачество» принимало весьма опасные формы проявления. Например, диссиденты-революционеры, крайне радикально, максималистски настроенные, вероятно, были бы в оппозиции к любой власти. Это тип наиболее полно представлен В.И. Новодворской и характеризуется двумя основными положениями: самопожертвование и сакральная идея – любовь к России. Это одержимые люди, фанатики своего рода. Новодворская писала: «Я всегда предпочту самого последнего коммунистического фанатика самому милейшему интересанту-обывателю» [6, с. 16].
Основную же массу диссидентов составляли люди, просто думающие. «К этому типу принадлежат люди, отмеченные способностями и знаниями, нравственностью и гражданской активностью; люди, которым действительно было что сказать согражданам, но как раз по этой причине они и преследовались. Именно обоснованность их выводов, здравость их предложений и выдавались властями за антисоветизм» [7, л. 2-3]. В 1964 г. студент третьего курса операторского факультета ВГИКа, коммунист Балан сказал одному из своих друзей: ««если ты не понимаешь, что происходит со мной, то я откровенно тебе скажу: не могу терпеть, когда вокруг меня написано черным по белому одно, а в действительности совсем другое, не могу никак смириться с такой «справедливостью». Истинная справедливость скрыта от народа, он теряет веру в нас, в партию. Всегда буду бороться с такими недостатками, знаю, что за это, быть может, меня ждут решетки, я не боюсь» [8, л. 64-65]. В 1967 г. пензенский обком КПСС отказал в просьбе о восстановлении в партии А.С. Найденкову. В 1964 г. он был исключен из рядов КПСС за то, что «в силу своей политической незрелости неправильно восприняв введение в г. Пензе талонов на продажу некоторых продуктов питания и расценив это как ошибочные действия местных властей, изготовил и распространил несколько вариантов текста листовок политически вредного содержания» [8, л. 66-68]. Это люди – нонконформисты по своей природе, но система зачастую оказывалась сильнее, и мало кто из них до конца выполнял свой общественный долг, как он понимался в начале оппозиционной деятельности.
Попадали в диссидентство и по воле случая, в связи со сложившимися обстоятельствами (романтический ореол героя, известность инакомыслящего, душевная атмосфера времяпрепровождения и т.п.). Отношения с диссидентами, отблеск их славы, желание иметь у себя на стене большой портрет Хемингуэя (хотя ты его и не читал) и записи Высоцкого не как художественные гражданские произведения, а как знак, символ принадлежности к разряду «избранных», все это толкало на «тропу войны» с режимом. Э. Аронсон заметил в своей книге «Общественное животное», что «существование еще одного инакомыслящего вызывает мощный эффект освобождения человека от влияния большинства» [9, с. 46]. Но все это происходило как-то не по-настоящему, а, скорее, напоминало игру в «войнушку», что приводило, правда, к вполне плачевным результатам. Так начинали В. Делоне и Е. Кушев: «Желание быть не хуже, высокая стоимость дружеских отношений обменивались на утрату комфорта и даже свободы: «Оба они … пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что «неудобно отказаться», неудобно изменить данному слову». Опоздавший на демонстрацию Е. Кушев объяснил на следствии свои действия: «Мне было неудобно, что я не пришел, и потому я решил крикнуть: «Долой диктатуру!» [10, с. 180].
Конечно, присутствовали среди диссидентов, особенно в поздний период, и люди, стремившиеся получить с этого «дела» политические и другого рода дивиденды. Например, возможность выехать из страны. Однако, хотелось бы все же уточнить. Массовая эмиграция возникла, все же, не в результате усилий диссидентов, а в результате совместной деятельности тех, кто не желал становиться ни диссидентом, ни политзаключенным и потому просто хотел уехать; тех, кто должен был за ними следить, да глаз не хватало; и, наконец, тех, у кого все это вызывало полное отвращение и возмущение. Так, движение евреев за выезд нашло исключительно широкую поддержку во всем мире. И понятно почему: в СССР евреям, к которым власти относились предвзято, вводили тайные квоты на прием на работу и в учебные заведения, то есть относились, как к людям нежелательным, одновременно не разрешали уехать – все это удивляло и раздражало.
Итак, несмотря на различную мотивацию, лежавшую в основе оппозиционной деятельности, исходным импульсом выступало желание просто думать самостоятельно, анализировать, критически воспринимать советскую действительность, что приводило к формированию иной мировоззренческой системы личности, базировавшейся на чувстве собственного достоинства и гражданственности.