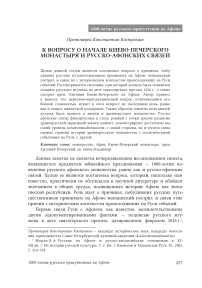К вопросу о начале Киево-Печерского монастыря и русско-афонских связей
Автор: Костромин Константин
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: 1000-летие русского присутствия на Афоне
Статья в выпуске: 4 (69), 2016 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является постановка вопроса о причинах, побудивших русских путешественников принимать на Афоне монашеский постриг, и связи их с историческим контекстом происходивших на Руси событий. Рассматривается ситуация, при которой должна была появиться подпись русского игумена на акте святогорского протата 1016 г., а также постриг преп. Антония Киево-Печерского на Афоне. Автор пришел к выводу, что церковно-юрисдикционный вопрос, отличающийся особенной сложностью, играет в этом вопросе не последнюю роль, равно как и вопрос княжеской поддержки. Таким образом, именно воля князей должна была вызвать к жизни и древнерусское монашество. Русско-афонские связи, фиксируемые в столь ранний с точки зрения развития древнерусской церковной жизни момент, демонстрируют достаточно высокий уровень коммуникабельности, с одной стороны, но и тесную связь первых страниц истории древнерусского монашества с политическими событиями на Руси, с другой.
Монашество, афон, киево-печерский монастырь, преп. антоний печерский, св. князь владимир
Короткий адрес: https://sciup.org/140190200
IDR: 140190200
Текст научной статьи К вопросу о начале Киево-Печерского монастыря и русско-афонских связей
Данная заметка не является исчерпывающим исследованием сюжета, являющегося предметом юбилейного празднования — 1000-летия появления русского афонского монашества, равно как и русско-афонских связей. Целью ее является постановка вопроса, который, насколько нам известно, практически не обсуждался в научной литературе и обойден молчанием в общих трудах, посвященных истории Афона как монашеской республики. Речь идет о причинах, побудивших русских путешественников принимать на Афоне монашеский постриг, и связи этих причин с историческим контекстом происходивших на Руси событий.
Первые связи Руси с Афоном, как известно, засвидетельствованы двумя задокументированными фактами — подписью русского игумена в акте святогорского протата, датированном февралем 1016 г.1,
и посещением Афона «основателем русского монашества» преп. Антонием Киево-Печерским. Оба эти факта мало осмыслены в контексте событий русской истории.
Прежде чем говорить о самих этих событиях, следует упомянуть научный спор, затеянный в советскую эпоху и при очевидном перевесе сил в пользу марксистко-ленинского материалистического атеизма доминировавший в науке до развала СССР, но сохраняющий актуальность и по сию пору, — спор о степени развитости как Руси в целом, так и Русской Церкви в частности. Ответить на этот вопрос нет возможности не только в рамках данной статьи, но и на современном уровне науки, однако он имеет большое значение в решении нашего локального вопроса. Поляризуя мнения исследователей, можно заметить, что одним Русская Церковь со времен Владимира казалась едва ли не идентичной современной, т. е. предельно развитой — с разветвленной и полностью сформированной иерархической структурой, богатой материальной базой, школой письменности и едва ли не со сложившимися за пять-десять лет традициями2. Другим же она представляется настолько неразвитой, что едва ли вообще можно, по их мнению, говорить о существовании ее в первые пятьдесят лет после Крещения Руси3. Ни тот, ни другой варианты, очевидно, не соответствуют исторической действительности. Русская Церковь не могла возникнуть «из ничего» в одночасье. На ее создание и оформление должны были уйти десятилетия, тем более что нужно было найти адекватные именно для Руси формы и накопить материальную базу. С другой стороны, старание князей, особенно — св. Владимира и Ярослава, оформить церковный строй, построить храмы, обеспечить правовое поле Церкви не могло не дать скорых плодов. Следует отметить несколько особенностей церковной жизни первых десятилетий ХI в. — Русская Церковь распространялась лишь в городах; она была наиболее тесно связана с княжеской верхушкой и даже сильно зависима от нее; она требовала высокого уровня культуры от новокре-щенного народа; она была материально зависима от древнерусской социальной элиты; ее иерархическая структура находилась в стадии формирования, что предполагало неизбежные эксперименты, инициировавшиеся князьями4.
Этот промежуточный, крайне неточный, но, тем не менее, важный вывод нужно применять к первым трем десятилетиям ХI в., т. е. к тем событиям, которые являются предметом изучения в данной статье. Можно ли говорить о сформированности института древнерусского монашества в эти годы? Разумеется, нет. Именно этим обстоятельством объясняется невозможность описать раннюю историю древнерусских монастырей5. Можно лишь утверждать, что монахи были на Руси, но какого они были происхождения, когда появились первые русские монахи, где они жили, как, где и когда были организованы первые монастыри — сказать невозможно. Первые монастыри (как и первые храмы, известные по наименованиям) появляются ближе к концу правления Ярослава Мудрого. На этом фоне первые сообщения о русских монашествующих приобретают особенную важность.
Документ афонского протата 1016 г., к сожалению, не несет в себе много информации, из которой можно было бы делать далеко идущие выводы. Однако его достаточно, чтобы задать целый ряд вопросов.
Вопрос первый — этнический. К какой этнической группе принадлежал этот безвестный монах — к варягам или славянам? Это важно, поскольку крайне трудно говорить о распространении христианства среди варягов до их полной ассимиляции со славянами и создания единого древнерусского этноса6. Единственное «громкое» исключение — Шимон варяг7. В этой связи важно заметить — крещение Руси фактически завершило (и стало самым сильным из средств) формирование древнерусского этноса. Об этом можно судить по отношению князей к своей прародине — Скандинавии. Если до Владимира Святого (включительно) князья воспринимали именно Скандинавию своей исторической родиной, сохраняли с ней тесные связи, набирали там дружину, то после смерти Владимира Святославича мы такой тесной связи уже не наблю-даем8. Последний князь, набиравший в Скандинавии дружину, — Ярослав Мудрый, и это последнее свидетельство о восприятии Скандинавии как родной земли относится ко времени смуты Владимировичей, т. е. ко времени появления рассматриваемого документа.
Вопрос второй — ктиторский. Кто мог (или должен был) стоять за появлением русского монаха на Афоне? Это была его частная инициатива, он был послан туда неким архиереем или его приезд на Святую Гору следует связывать с поддержкой кого-либо из князей? Очевидно, что в 1016 г. никто из русских князей не мог оказать такой поддержки. Кроме того, появление афонского документа фиксирует «верхнюю границу» появления русского монастыря (или скита?), но не «нижнюю», т. е. монах должен был появиться на Афоне раньше. До смерти князя Владимира церковная деятельность его сыновей нам практически неизвестна. Даже святость св. Бориса и Глеба, как и их набожность, связана не с их жизнью, а с их гибелью, в контексте с которой она и вспоминается во всех без исключения древних памятниках, упоминающих о них. Пожалуй, единственным, кто остался в истории как «церковный деятель», был Святополк («Окаянный»), пригласивший в Туров епископа Рейнберна. Получается, единственными князьями, которые могли оказать поддержку русскому монаху на Афоне (если сделать скидку на то, что нам многое неизвестно), были Владимир Святой и Святополк. Мог ли таковым выступить Владимир Святославич? Разумеется, мог, однако данному утверждению мешает важный источниковедческий момент — последние годы жизни князя не отражены в русском летописании и не фигурируют в иных письменных источниках9. Одной из причин такого положения дел не могло не быть физическое состояние князя, сказывавшееся на политических делах, — он, очевидно, все менее контролировал ситуацию на Руси (это видно и по сохранившимся сведениям о бунтах Святополка и Ярослава), что было «неудобно» отмечать летописцу.
Могли ли оказывать поддержку Святополк и епископ Рейнберн? Как ни странно, вполне могли. Подтверждением данному предположению (амбивалентному предположению о «ктиторстве» Владимира над русским афонским монахом) служит редкое свидетельство Киево-Печерского Патерика о ранних русско-афонских связях — о пострижении Моисея Угрина, одного из первых насельников Киево-Печерского монастыря. Как известно, он был пострижен в монахи неким иеромонахом с Афона. Моисей в это время находился в плену в Польше10. Польша, к тому времени проходившая христианизацию немецким духовенством по латинскому образцу, никогда не имела никакого отношения к восточно-христианской традиции. Что мог делать в Польше монах с Афона? Он ехал из латинского монастыря в Польшу? Он был поляком, постриженным в восточном монастыре? Он передвигался транзитом через Польшу в Скандинавию? (Не самый удобный, но наиболее прямой путь попадания из Фессалии в Швецию, если миновать неспокойное юго-западное Прикарпатье.) На эти вопросы нет ответа. Однако странный факт пострижения афонитом Моисея в монахи в Польше дает возможность связать деятельность епископа Рейнберна из северной Польши (Колобжега) в Турове с русско-афонскими связями (интересно, что в Патерике Моисей объяснял свое нежелание жениться на знатной польке не разницей в вере или обряде, а только желанием монашеского жития11).
Вопрос третий — политический. Нужно ли видеть связь в совпадении даты документа протата с годами смуты Владимировичей? Иными словами, не следует ли рассматривать появление русского монаха на Афоне как результат его бегства из неспокойной Руси? В этом случае бегство могло совершиться и в 1015, и в 1014, и даже в 1013 г., поскольку для очевидцев событий смута Владимировичей после смерти равноапостольного князя была не просто реакцией на его кончину, но и прямым следствием тех бунтов, которые они начали поднимать в последние годы жизни отца. Иными словами, неспокойное время, апогеем которого были 1015–1018 гг., началось ранее и уже стало вызывать миграции населения из районов, наиболее неспокойных в случае ведения боевых действий — Древлянской земли, лежавшей между Туровом и Киевом, Смоленщины (где позднее погибнет св. князь Глеб), которая лежала почти на полпути из Новгорода в Киев.
Вопрос четвертый — юрисдикционный. Вопрос о церковных иерархиях, действовавших на Руси после ее крещения князем Владимиром, вновь активно обсуждается в науке. Мне уже приходилось высказываться по этому вопросу12. На мой взгляд, речь должна идти об иерархической неопределенности на Руси в конце Х — начале ХI в. При доминировании иерархии из Херсонеса, вывезенной князем Владимиром после захвата города, пытавшейся декларировать принцип автокефалии, на Руси также имели место латинская иерархия из Польши; болгарская иерархия, приехавшая в помощь крещения населения древнерусских городов; византийская иерархия, оказавшаяся в своеобразной изоляции. При рассмотрении вопроса о ранних страницах древнерусского монашества следует в связи с этим отметить, что в «Повести временных лет» — наиболее информативном источнике о церковной жизни за эти годы — говорится практически только об иерархии из Херсонеса (нужно иметь в виду, что автор «Повести временных лет» был заинтересован в как можно большем сокрытии информации об этом превалировании автокефалист-ских тенденций), а о существовании иных церковных иерархий на Руси известно только из иностранных источников.
Русский монах на Афоне, если он был выходцем из Руси, должен был принадлежать одной из этих иерархий. Если он был бы сторонником херсонесской иерархии, тогда он должен был получить поддержку князя Владимира, однако автокефалистская политика поддерживавшейся им иерархии едва ли должна была быть принята на Афоне (хотя едва ли Афон в ту эпоху был жестко привязан к церковно-политическим настроениям в столице Ромейской империи). Едва ли возможно также отследить связи русского монаха на Афоне с болгарскими монастырями.
Остаются два варианта — либо он был сторонником византийской митрополии и уехал из Руси на Афон в связи с притеснениями в отношении этой иерархии (в таком случае его не поддерживал никто из русских князей), либо он был связан с латинской иерархией и был поддержан князем Святополком (на Афоне в начале ХI века еще существовал латинский итальянский монастырь).
Все эти предположения получают дополнительную «пищу для размышлений», если вспомнить основателя Киево-Печерского монастыря — преподобного Антония. Его древнейшее житие не сохранилось13. Есть лишь отдельные фрагменты в Киево-Печерском Патерике, позднее оформленные в виде жития, а также биографические фрагменты в «Повести временных лет». Считается, что Антоний уехал из Афона на Русь до 1015 г.14, т. е. почти в то же самое время, когда появилась подпись русского монаха на Афоне. Если один в это время прибыл, а другой убыл, это позволяет предположить, что они придерживались разных мнений относительно ситуации на Руси (с учетом, что скудость сведений не позволяет говорить об этой ситуации более подробно). Если верить имеющейся датировке, Антоний «пересидел» в пещере около Киева все годы смуты и «легализовался» или, вернее, перестал скрываться только после смерти Мстислава Тмутараканского и создания единой державы Ярослава Мудро-го15. Это характеризует Антония, во-первых, как сторонника византийской иерархии16, во-вторых, как ее представителя в смутные годы на Руси.
Однако в истории создания Антонием монастыря в изложении «Повести временных лет» есть несколько логических несообразностей, не позволяющих рассматривать летописный свод как надежный источник по истории обители. В статье о том, «чего ради прозвася Печерский монастырь», подчеркивается преемство нового Печерского монастыря и монастырей Афона: «Се Бог вас, братья, совокупи, и от благословенья есте Святыя Горы, им же мене постриже игумен Святыя Горы, а яз вас постригал; да буди благословенье на вас первое от Бога, а второе от Святыя Горы»17. И тем не менее, монастырь не был общежительным и не походил на общежительные монастыри Афона, в одном из которых должен был принять постриг Антоний18. Т. е., приехав с Афона в Киев, Антоний начал создавать не общежительную, а скитскую или даже, вернее, келлиотскую систему Афона. Жизнь подвижника в пещере на Афоне соответствовала жизни в пещере над Днепром. Пещер было довольно много, позднее они были соединены в единую «коридорную систему». Воспроизведение «пещерного» уклада Афона в Киевской горе говорит о том, что Антоний не был насельником общежительного крупного афонского монастыря и, таким образом, также не соответствует образу «обычного» византийского монаха19. Можно вспомнить про хронологические несуразности и умолчание ранней истории монастыря. Особенности подвига преп. Антония в описании автора «Повести временных лет» вполне убедительны в целом, что позволило Г. П. Федотову утверждать, что «школу Антония можно считать первой, неудачной попыткой новорожденного русского монашества подражать восточным образцам»20. Несколько конкретизируя ситуацию, можно дополнить этот вывод другим: попытка древнерусского монашества в самом начале своей истории перенять школу афонского анахоретского монашества оказалась настолько неудачной, что в течение достаточно долгого последующего времени русское афонское монашество потеряло непосредственную связь в монашеством на Руси. Последнее же, в свою очередь, подталкиваемое вынужденной «новорожденной» простотой и пожеланиями князей, начало перенимать столичную византийскую «модную» монашескую традицию Студийского монастыря.
Задачей данной статьи было показать, что история ранних русско-афонских связей (1010–1030-х гг.) должна рассматриваться в тесной связи с русской историей. Церковно-юрисдикционный вопрос, отличающийся особенной сложностью, играет здесь не последнюю роль, равно как и вопрос княжеской поддержки. Нельзя не вспомнить, что положение Церкви в наиболее ранний период ее существования на Руси определялось волей князей, а позднее — юридическими документами, созданными в княжеских администрациях («Церковный устав» князя Владимира, «Церковный устав» князя Ярослава и другими). Таким образом, именно воля князей должна была вызвать к жизни и древнерусское монашество. Русско-афонские связи, фиксируемые в столь ранний с точки зрения развития древнерусской церковной жизни момент, демонстрируют достаточно высокий уровень коммуникабельности, с одной стороны, но и тесную связь первых страниц истории древнерусского монашества с политическими событиями на Руси, с другой.
Список литературы К вопросу о начале Киево-Печерского монастыря и русско-афонских связей
- Белоусов М. С. Русский историк И. Я. Фроянов//Древняя Русь: во времени,в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw, en proswpw, en eidei. Альманах.Вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова/под ред. д.и.н.,проф. А. В. Петрова. СПб., 2016. С. 8-26.
- Библиотека литературы Древней Руси/под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 4: ХII век. СПб.: Наука, 1997.
- Гайденко П. И. К проблеме типологизации монастырей домонгольской Руси//Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw,en proswpw, en eidei. Альманах. Вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова/под ред. д.и.н., проф. А. В. Петрова. СПб., 2016. С. 158-176.
- Дворниченко А. Ю. Г. В. Вернадский -исследователь Киевской Руси//Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw, en proswpw,en eidei. Альманах. Вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова/под ред. д.и.н., проф. А. В. Петрова. СПб., 2016. С. 56-81.
- Знаменский П. В. История Русской церкви. М.: Крутицкое подворье, Общество любителей церковной истории, 2002.
- История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года. Т. 4: Русский Афон XIX-XX веков. Афон: Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2015.
- Костромин К., прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016.
- Костромин К., прот. Конфессиональная поликультурность Киевской Руси начала ХI века//Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia:en cronw, en proswpw, en eidei. Альманах. Вып. 3: Материалы научной конференции «Равноапостольный князь Владимир и формирование русской цивилизации» Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2015 г./Под ред. к.и.н. прот. К. А. Костромина. СПб., 2015. С. 48-75.
- Костромин К., свящ. Проблема атрибуции «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере крестьянской и о латыньской»//Христианское чтение. 2011. № 1(36). С. 6-97.
- Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой(до середины XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений.Saarbrücken: LAP, 2013.
- Ловмяньский Х. Русь и норманны/пер. с польск. М. Е. Бычковой. М.: Прогресс, 1985.
- Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в ХI-ХII вв.//Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1: Киевская и Московская Русь/сост. А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский. М.: Языки славянской культуры,2002. С. 309-357.
- Назаренко А. В., Турилов А. А. Антоний//Православная энциклопедия. Т. 2: Алексий, человек Божий -Анфим Анхиальский. М., 2001. С. 602-604.
- Петрухин В. Я. Русские князья и дружина в IХ -начале ХI в.: социальная терминология и этнические связи//Петрухин В. Я. «Русь и вси языци». Аспекты исторических взаимосвязей: историко-археологические очерки. М.: Языки славян-ских культур, 2011. С. 112-118.
- Повесть временных лет/подг. текста, перев., статьи и комм. Д. С. Лихачева. Под ред. В. П. Андриановой-Перетц. Изд. 2-е, исправ. и доп. СПб.: Наука, 1999.
- Федотов Г. П. Русская религиозность. Ч. 1: Христианство Киевской Руси. Х-ХIII вв.//Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 10. М.: Мартис, Sam&Sam, 2001.
- Фомина Т. Ю. Епископская власть в домонгольской Руси: истоки, становление, развитие. М.: Университетская книга, 2014.
- Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание ХI-ХII вв./отв. ред. В. К. Зиборов, В. В. Яковлев. СПб.: Наука, 2003.