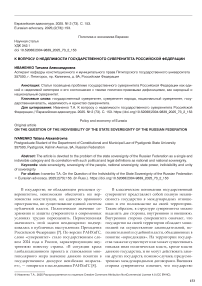К вопросу о неделимости государственного суверенитета Российской Федерации
Автор: Иваненко Т.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме государственного суверенитета Российской Федерации как единой и неделимой категории и его соотношения с такими политико-правовыми дефинициями, как народный и национальный суверенитет.
Государственный суверенитет, суверенитет народа, национальный суверенитет, государственная власть, неделимость и единство суверенитета
Короткий адрес: https://sciup.org/140309906
IDR: 140309906 | УДК: 342.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_153
Текст научной статьи К вопросу о неделимости государственного суверенитета Российской Федерации
В государстве, не обладающем реальным суверенитетом, невозможно обеспечить ни верховенства конституции, ни единство правового пространства, ни существование единой системы публичной власти. Политическое значение сохранения и защиты суверенитета в современных условиях трудно переоценить. Первостепенная значимость этой задачи неоднократно подчеркивалась в публичных выступлениях Президента Российской Федерации [7]. По версии РАНХиГС, слово «суверенитет» стало государственным словом 2024 года в России, характеризующим внутреннюю повестку страны. «В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает», — говорится в исследовании РАНХиГС [8].
В классическом понимании государственный суверенитет представляет собой полную независимость государства в международных отношениях и его полновластие на своей территории. Таким образом, в структуре суверенитета можно выделить две стороны, внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона суверенитета означает, что государство на своей территории обладает монополией на осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти, объединенных в понятие «юрисдикция». На территории государства также не существует и не может существовать никакая иная политическая власть, кроме власти данного государства, и не могут действовать законы других государств, помимо случаев, предусмотренных международными договорами. Внешняя сторона суверенитета означает, что государство
полностью независимо от других государств и может свободно, по своему усмотрению и в своих интересах строить свою внешнюю и внутреннюю политику и развивать свои политические и экономические системы.
Основу государственного суверенитета образует суверенитет народа, составляющего население данного государства. Именно народ своей суверенной волей учреждает и само государство, и все органы государственной власти. Юридическим выражением суверенной учредительной воли народа чаще всего является принятие конституции – основного закона государства.
В последние десятилетия в западной правовой доктрине получила широкое распространение точка зрения, согласно которой суверенитет является устаревшим понятием, реликтом прошлого, поскольку в эпоху тотальной взаимозависимости государств и развитой системы прав человека не представляется возможным говорить о независимости государства и его полновластии на своей территории. Авторы подобных концепций (Г. Краббе, Г. Ласки, Л. Дюги, Н. Политис, Х. Дри-ер и другие [5, с. 126–150]) допускают существование так называемого «ограниченного суверенитета» и возможность разделения суверенитета между различными политическими структурами. Данный подход разделяется и рядом отечественных ученых [4, с. 1389–1397]. При этом все подобные концепции основаны на вторичных, зачастую конъюнктурных факторах и полностью оторваны от концепции народного суверенитета, которая априори рассматривает суверенитет как неделимую, недробную категорию – если един народ, проявивший свою суверенную волю и учредивший тем самым соответствующее государство, то един и государственный суверенитет, выступающий таким образом имманентным, неотъемлемым признаком этого государства.
В период распада Советского Союза и формирования новой российской государственности борьба за суверенитет стала своеобразным символом эпохи. В условиях пресловутого «парада суверенитетов» набирали обороты центробежные тенденции, серьезно угрожавшие единству и территориальной целостности молодого российского государства. Принятие Конституции 1993 года положило начало формированию принципиально новых подходов в сфере федеративного строительства и позволило во многом стабилизировать политическую ситуацию в стране.
Конституция заложила основные принципы взаимоотношений между ветвями и уровнями государственной власти, создала систему разде- ления полномочий и в определённой мере сняла противоречия в отношениях между субъектами РФ.
В научной доктрине и практике государственного строительства принято выделять две категориальные разновидности суверенитета – государственный суверенитет и суверенитет народа (народный суверенитет). Говоря о соотношении этих двух категорий, необходимо отметить, что первичным здесь выступает именно народный суверенитет. Народ выступает в качестве учредителя и своей суверенной волей создает и само государство с его политической системой, экономическим и социальным строем, и все органы государственной власти.
При этом государство является основной формой политической организации общества. Все устойчивые человеческие общности, доказавшие свою историческую дееспособность, существовали и существуют именно в форме государств. Внутри государства существуют и иные формы политической и неполитической организации народа – политические партии, общественные объединения, профессиональные и иные союзы, которые в совокупности формируют гражданское общество.
При демократическом политическом режиме государственная власть является выразителем народной воли, и, соответственно, народный и государственный суверенитет совпадают. Государственная власть выступает в качестве основной формы реализации власти народа, которая, в свою очередь, наделяет государственную власть таким важнейшим качеством, как легитимность.
Народ в государственной власти определенным образом реализует свой суверенитет. Как утверждал известный политический деятель эпохи перестройки Т.М. Шамба, «Единственным носителем суверенитета является народ вне зависимости от его численности. А прямым продолжением суверенитета народа является суверенитет созданного им государства, а самоопределение квалифицируется как свободное обеспечение своего экономического, социального и культурного развития, исключающее насильственное удержание одного народа под властью другого» [9]. Данная точка зрения с достаточной степенью аргументированности опровергает те концепции суверенитета, согласно которым суверенитет нации или народа является единственной реально существующей разновидностью суверенитета, а государства, созданные волей этих народов и наций, суверенитетом могут и не обладать. При этом очевидно, что если народ по каким-либо причинам утрачивает свою свободу и независимость, а следовательно, и суверенитет, то суверенитет утратит и государство, учрежденное этим народом.
Между суверенитетом народа и суверенитетом соответствующей государственной власти существует неразрывная диалектическая связь: народ является одновременно источником и носителем и государственной власти, и суверенитета. Именно поэтому государственная власть является суверенной государственной властью.
При этом суверенитет народа является для государственной власти своеобразным ограничивающим фактором, поскольку именно народ наделен высшим правом формировать политические, экономические и социальные системы государства, действуя через соответствующие демократические институты.
В политико-правовой литературе различают понятия «государственный суверенитет», «народный суверенитет» и «национальный суверенитет». По мнению М.В. Золотаревой, «В иерархии этих понятий и их практической значимости на первом месте находится народный суверенитет, выражающий верховное, неотчуждаемое право народа определять свою судьбу, быть единственным, ни от кого и ни от чего не зависимым носителем и выразителем верховной власти в государстве и обществе. Производным от народного суверенитета является государственный суверенитет. В практическом функционировании они тесно взаимосвязаны. Государственный и народный суверенитеты нераздельно сосуществуют в государственной и общественной жизни, и это сосуществование можно определить как способность государства самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику при условии соблюдения прав человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств и соблюдения норм международного права» [5, с. 141–142].
Наиболее сложным является выявление смыслового наполнения такой политико-правовой категории, как национальный суверенитет. Данная категория теснейшим образом связана с правом наций и народов на самоопределение. В процессе реализации этого права нации определяют свою политическую судьбу, избирают форму государственного устройства, формируют свои социальные, экономические и культурные системы.
При этом нация в процессе политического оформления своей государственности должна создать соответствующие властные институты, которые представляли бы ее интересы как во внутригосударственных, так и в международных отношениях [1]. Однако далеко не каждая этническая общность обладает необходимым экономическим, демографическим и историко-культурным потенциалом для создания собственной государственности и обретения суверенного статуса.
Понятие «национальная государственность» в международной практике имеет общегражданский смысл, а слова «нация» и «государство» в этом контексте выступают как синонимы. Такое понимание нации закреплено в важнейших международно-правовых документах.
Мировое сообщество существует в виде Организации Объединенных Наций, которые представлены их государствами. Как пишет Л.М. Карапетян, «В сфере международных отношений понятия «нация» и «государство» выступают как идентичные, выражающие социально-политическое образование народов данной страны. Единое государство объединяет в своем составе разные этнические общности со своими культурными и духовными особенностями. Отсюда очевидна ограниченность понимания «нации» только как некой этнической общности. Многонациональное суверенное государство, как правило, объединяет в своем составе различные народы. Эти народы являются носителями государственного суверенитета, но при этом обладают некой «локальной» суверенностью, в особенности, если имеют свое собственное национально-государственное или национально-территориальное образование» [6, с. 229]. И далее: «...понятия «государственный суверенитет», «народный суверенитет» и «национальный суверенитет» не тождественны, но тесно взаимосвязаны и функционируют в единой системе. Все разновидности суверенитета обладают общими составляющими элементами: верховенством, независимостью, неотчуждаемостью и единством» [6, с. 229].
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на наличие в системе суверенитета как государственно-правовой категории трех возможных его обладателей и носителей – государство, народ, нация, суверенитет выступает как единая политическая и правовая ценность, имманентный, неотъемлемый признак государства, образованного соответствующей нацией или народом. Любые концепции, допускающие существование ограниченного суверенитета или отрицающие его единство и неделимость, логически несостоятельны, поскольку не учитывают того важнейшего обстоятельства, что источником и носителем суверенитета является народ. При этом добровольный отказ субъекта-носителя от каких-либо его суверенных прав есть высшее доказательство наличия у него свободной и независимой, то есть суверенной, воли.