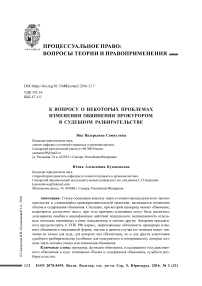К вопросу о некоторых проблемах изменения обвинения прокурором в судебном разбирательстве
Автор: Самиулина Яна Валерьевна, Кузовенкова Юлия Алексеевна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 3 (32), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу норм уголовно-процессуального законодательства и сложившейся правоприменительной практики, касающихся изменения объема и содержания обвинения. Ситуация, при которой прокурор меняет обвинение, встречается достаточно часто, при этом причины изменения могут быть различны: допущенная ошибка в квалификации действий подсудимого, недоказанность отдельных эпизодов, вменяемых в вину подсудимому, и многие другие. Авторами предлагается предусмотреть в УПК РФ нормы, закрепляющие обязанность прокурора изменять обвинение в письменной форме, так как в данном случае его позиция имеет значение не только для суда, для которого она обязательна, но и для других участников судебного разбирательства (особенно для подсудимого и потерпевшего), которые должны знать мотивы отказа или изменения обвинения.
Прокурор, функция обвинения, поддержание государственного обвинения в суде, изменение объема и содержания обвинения, судебное разбирательство
Короткий адрес: https://sciup.org/14973321
IDR: 14973321 | УДК: 343.16 | DOI: 10.15688/jvolsu5.2016.3.17
Текст научной статьи К вопросу о некоторых проблемах изменения обвинения прокурором в судебном разбирательстве
DOI:
Одной из наиболее острых проблем в уголовном судопроизводстве остается вопрос, касающийся изменения обвинения.
Изменение объема и содержания обвинения по действующему уголовно-процессуальному законодательству возможно на различных стадиях уголовного процесса (ст. 175, п. 2 ч. 1 ст. 221, ч. 2 ст. 226, ч. 5 ст. 236, ч. 8 ст. 246, ч. 2 ст. 252 УПК РФ).
В судебной практике возникают ситуации, когда предъявленное органами предварительного следствия обвинение в ходе судебного разбирательства не подтверждается и суд при постановлении приговора квалифицирует действия подсудимого по другой статье уголовного закона. Так, органами предварительного следствия действия подсудимых Д. и К. квалифицировались по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Прокурор в судебном заседании отказался от указанной квалификации, считая, что их действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 116 УК РФ и по ст. 163 УК РФ [8].
Статья 252 УПК РФ устанавливает пределы судебного разбирательства и закрепляет правила, согласно которым таковое проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. По смыслу ч. 2 указанной нормы изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Таким образом, закон устанавливает определенные запреты, которые в обязательном порядке должны приниматься судом во внимание при переквалификации действий подсудимого.
Осуществляя уголовное преследование или поддерживая перед судом государственное обвинение, прокурор выступает во имя торжества права, правосудия, законности и справедливости, что обязывает его быть объективным, беспристрастным и справедливым, а значит, подчиняющим все свои действия в ходе собирания, проверки, оценки и представления суду доказательств целям установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 85 УПК), то есть установлению истины по делу, вынесению по нему судом законного, обоснованного и справедливого решения. Поэтому, придя на основе имеющихся по делу доказательств к убеждению в мень- шей виновности подсудимого по сравнению с предъявленным ему обвинением, прокурор не только вправе, но и обязан высказать и обосновать перед судом это свое убеждение в форме мотивированного изменения обвинения или частичного отказа от обвинения.
Проблема изменения обвинения прокурором, выступающим в суде в качестве государственного обвинителя, обсуждается многими исследователями.
УПК РФ предусматривает, что в данном случае позиция прокурора обязательна для суда, который в условиях состязательного процесса не может брать на себя функцию уголовного преследования.
Однако некоторыми авторами оспариваются правильность и целесообразность подобного решения законодателя. Они считают, что «несовместимо со статусом суда такое положение, при котором суд вынужден был бы слепо повторять ошибку прокурора, неправильно квалифицирующего установленные в судебном заседании обстоятельства» [5, с. 155].
Авторы аргументируют свою позицию следующим образом. Так, В. Кобзарь пишет: «Суд лишен возможности оценивать и учитывать те выводы обвинительного заключения, которые государственным обвинителем признаны несостоятельными или ошибочными… Суд при этом не исследует и не подвергает оценке позицию прокурора, равно как и позицию подсудимого даже в случае полного признания им вины. Судьба дела в этих случаях решается не самим судом, а одной из сторон – государственным обвинителем. Теряет при таком положении свой изначальный смысл и такой важный процессуальный документ, как обвинительное заключение, утвержденное соответствующим прокурором и определявшее до недавнего времени пределы судебного разбирательства» [4, с. 24].
В. Балакшин и С. Зеленин считают, что «данное положение нарушает принцип независимости суда и посягает на свободу внутреннего убеждения судей» [1, с. 23], а следовательно, подрывается авторитет судебной власти, так как «именно суд несет ответственность за законность и справедливость окончательного решения по делу», значит, «суд обязан исправить любую ошибку следствия в квалификации деяния, в какую бы сторону она ни была допущена – в пользу обвиняемого или ему во вред» [3, с. 14]. В качестве решения данной проблемы авторы предлагают установить контроль со стороны суда над изменением позиции государственного обвинителя, настаивая на самостоятельности, то есть фактически несогласии суда с мнением обвинителя.
Однако полагаем, что предоставление суду права контроля над изменением позиции государственного обвинителя недопустимо. По сути, это означало бы выполнение судом не свойственной ему функции уголовного преследования. В соответствии со ст. 15 УПК РФ суд выполняет функцию разрешения дела, он должен исследовать обстоятельства совершенного деяния, доказательства, представленные ему сторонами. Он не должен оценивать правильность или целесообразность процессуальной позиции государственного обвинителя, как, впрочем, и защитника. Следует согласиться с мнением по этому вопросу, высказанным И. Демидовым и А. Тушевым: «Предметом судебного разбирательства является не вопрос о том, правильна или нет позиция прокурора… а обстоятельства уголовного дела в отношении подсудимого, предъявленное ему обвинение (ст. 73 УПК)» [2].
На практике возникает вопрос: как поступить суду, когда прокурор допускает ошибку в квалификации действий подсудимого и, используя полномочие, предоставленное ему п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменяет объем обвинения?
Думается, что решение подобных проблем должно производиться согласно следующим двум правилам:
-
1. Если прокурор, по мнению суда, допускает ошибку и предлагает переквалифицировать действия подсудимого в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание (то есть налицо изменение обвинения), то суд должен вынести решение в соответствии с позицией прокурора, а при наличии соответствующих обстоятельств – оправдательный приговор.
-
2. Если же новая квалификация, предложенная прокурором, не затрагивает первоначального объема обвинения, то суд с учетом мнения подсудимого может самостоятельно принять решение.
Как правило, на практике государственные обвинители заявляют об изменении обвинения в ходе судебных прений, когда каждая из сторон вправе высказать и довести до сведения суда свою точку зрения о правильном применении закона и аргументировать ее. Так, органами предварительного следствия подсудимый Р. обвинялся в подделке официального документа в целях его использования. Однако в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил суд переквалифицировать действия подсудимого с ч. 1 ст. 327 на ч. 3 ст. 327 УК РФ, так как страховой полис ОСАГО официальным документом не является, а представляет собой документ строгой отчетности государственного образца, выданный страховой организацией в качестве важного личного документа, необходимого водителю в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г., в редакции от 30 июня 2015 года [7].
В методической литературе также даются рекомендации прокурорам, поддерживающим обвинение, делать такие заявления на тех этапах судебного рассмотрения, которые связаны с подведением предварительных или окончательных итогов по делу, то есть в процессе либо предварительного слушания, либо судебного разбирательства (по завершении исследования доказательств). Понятно, что для принятия столь ответственного решения государственный обвинитель должен прежде исследовать и проанализировать обстоятельства дела и предложенные стороной защиты доказательства.
Иногда на практике встречаются случаи, когда государственные обвинители несколько раз меняют свою позицию в ходе рассмотрения дела судом.
Возникает резонный вопрос: может ли государственный обвинитель в ходе судебного рассмотрения дела несколько раз изменять обвинение? И еще: какая позиция прокурора обязательна для суда – окончательная, обозначенная в судебных прениях, или изложенная ранее?
Исходя из выдвинутого нами тезиса о том, что позиция государственного обвинителя предопределяет пределы судебного разбирательства, необходимо однозначно отве- тить на поставленные вопросы. После изменения прокурором обвинения в сторону смягчения он более не имеет возможности вернуться к первоначальному обвинению, так как для подсудимого это означало бы «поворот к худшему» и, следовательно, нарушение его права на защиту.
Суд, разрешая дело, должен требовать от государственного обвинителя ясности и четкости его позиции относительно объема обвинения. Поэтому в литературе предлагается ввести требование письменной формы к порядку отказа или изменения обвинения.
Подобной позиции придерживается А.А. Михайлов, предлагающий закрепить в УПК РФ правило, в соответствии с которым изменение прокурором обвинения должно осуществляться в письменной форме, так как изменение обвинения, произведенное в устном выступлении прокурора, не всегда правильно и полно фиксируется в протоколе судебного заседания; на практике имеются случаи расхождения между тем, как зафиксировано изменение прокурором обвинения в протоколе судебного заседания, и тем, как об этом указано в приговоре суда [6, с. 134–135].
Полагаем, что с этим можно согласиться, так как в данном случае позиция прокурора имеет значение не только для суда, но и для других участников судебного разбирательства (особенно для подсудимого и потерпевшего), которые должны знать мотивы отказа или изменения обвинения.
Проведенное исследование по изучению уголовных дел позволяет сделать вывод, что в судах изменение прокурором обвинения имеет место в 23 % рассмотренных уголовных дел.
Список литературы К вопросу о некоторых проблемах изменения обвинения прокурором в судебном разбирательстве
- Балакшин, В. Состязательность или оптико-акустический обман?/В. Балакшин//Законность. -2001. -№ 12. -С. 23-27.
- Демидов, И. Отказ прокурора от обвинения/И. Демидов, А. Тушев//Российская юстиция. -2002. -№ 8. -С. 25-27.
- Зеленин, С. Зависимость суда от позиции прокурора/С. Зеленин//Законность. -2001. -№ 5. -С. 14-16.
- Кобзарь, В. Отказ прокурора от обвинения/В. Кобзарь//Законность. -2001. -№ 4. -С. 24-26.
- Лебедев, В. М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации/В. М. Лебедев. -М.: Рос. акад. правосудия, 2000. -368 с.
- Михайлов, А. А. Сущность изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции/А. А. Михайлов//Вестник Томского государственного университета. -2007. -№ 302. -С. 134-135.
- Уголовное дело № 1-236/2015//Архив Волжского районного суда Самарской области.
- Уголовное дело № 1-313/13//Архив Советского районного суда г. Самары.