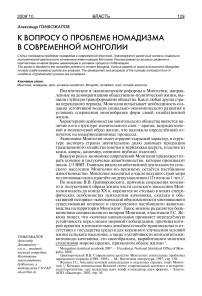К вопросу о проблеме номадизма в современной Монголии
Автор: Гомбожапов Александр Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме номадизма в современной Монголии. Анализируется различные аспекты социально-экономической деятельности кочевников-животноводов Монголии. Рассматриваются вопросы развития и перспективы кочевой формы цивилизации в условиях процесса глобализации.
Монголия, номадизм, арат, кочевое хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/170164599
IDR: 170164599
Текст научной статьи К вопросу о проблеме номадизма в современной Монголии
Политические и экономические реформы в Монголии, направленные на демократизацию общественно-политической жизни, вызвали глубокую трансформацию общества. Как и любая другая страна переходного периода, Монголия испытывает необходимость создания устойчивой модели социально-экономического развития в условиях сохранения многообразия форм своей хозяйственной жизни.
Характерной особенностью монгольского общества является наличие в его структуре значительного слоя – аратов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, что наложило определённый отпечаток на модернизационные процессы.
Экономика Монголии имеет аграрно-сырьевой характер, в структуре экспорта страны значительную долю занимает продукция традиционного хозяйства (овечья и верблюжья шерсть, изделия из кожи, ковры, кашемир, овчинно-шубные изделия).
Важную роль в экономике современной Монголии продолжает играть кочевое и полукочевое животноводство, которое производит около 1/3 ВВП. Главным видом хозяйственной деятельности сельского населения Монголии по-прежнему остаётся пастбищное животноводство. Монголия находится в числе ведущих стран мира по поголовью скота в расчёте на душу населения (12 голов на 1 чел.)1.
ГОМБОЖАПОВ Александр
По мнению В.В. Грайворонского, причины сохранения кочевого и полукочевого образа жизни части сельского населения Монголии вплоть до конца XX в. коренятся не столько в неких специфических особенностях психологии кочевника, сколько в объективной историко-экономической обусловленности многовекового существования кочевого и полукочевого пастбищного животноводства на территории Монголии2. Такое мнение разделяется большинством специалистов по истории Монголии, в частности Г.С. Яс-кина пишет, что «кочевая цивилизация проявляет определённую устойчивость перед лицом мировой глобализации, причины которой кроются в относительно дешёвом способе производства и отсутствии у государства средств для коренного улучшения условий жизни сельского населения, а также в устойчивости менталитета животновода-кочевника, его своеобразном, выработанном многими столетиями мировоззрении, привычном образе жизни»3.
-
1 Mongolian statistical yearbook 2007. – Ulaanbatar, National Statistical Office of Mongolia, 2008.
-
2 Грайворонский В.В. Современное аратство Монголии: социальные проблемы переходного периода (1980–1995). – М.: Восточная литература, 1997, стр. 130.
-
3 Яскина Г.С. Анклавы кочевой цивилизации в отдельных странах: опыт Монголии // Кочевая цивилизация Великой степи: современный контекст и историческая перспектива : мат. междунар. науч. конф. и междунар. науч. форума. – Элиста: АПП «Джангар», 2002, стр. 50.
По статистическим данным за 2005 г. можно проследить возрастающую динамику численности населения Монголии, занятого в производстве животноводческой продукции. Общее число скотоводов со 135,4 тыс. в 1989 г. возросло до 421,4 тыс. в 2000 г., т.е. в три раза, соответственно, количество семей увеличилось с 68,9 тыс. до 268,7 тыс. В последующие годы количество скотоводов несколько сократилось и составило 364,3 тыс. человек, что составляет 36% экономически активного населения. Согласно сравнительным данным с 1989 по 2005 г. удельный вес сельского населения в общей численности оставался в пределах 40%.
Наибольший рост численности занятых в производстве животноводческой продукции был зафиксирован в 2000 г. Он составил 421,4 тыс. чел., что может считаться пиком процесса реномадизации. Дальнейшая устойчивая тенденция уменьшения доли животноводов-кочевников в процентном отношении связана с ростом промышленного производства. В то же время имелись и причины временного характера. В 2000–2002 гг. в результате стихийных бедствий, засухи и последующего падежа скота потери животных достигли 11,2 млн голов, что вызвало миграцию сельского населения в города.
Всё это позволяет говорить о том, что проблема номадизма в современной Монголии является более чем актуальной, затрагивающей судьбы многих сотен тысяч животноводов и их семей.
В историографии вопроса под современной проблемой номадизма принято понимать «комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами существования и развития кочевых и полукочевых форм хозяйства, культуры и быта, а также народов и этнических групп, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в конце XX в., стремительного научно-технического и социального прогресса, широкого взаимодействия и взаимовлияния различных цивилизаций при ведущей агрессивной роли современной индустриальной и постиндустриальной цивилизации. Суть проблемы номадизма состоит в поисках оптимальных путей адаптации, сохранения и развития лучших, наиболее ценных материальных и духовных достижений кочевой цивилизации, построенной и развивающейся на иных идеологических и техно- логических организационных принци-пах»1.
Проблема номадизма, т.е. проблема сохранения кочевого (полукочевого) скотоводческого хозяйства в условиях поступательного движения модернизационных и глобализационных процессов, не может быть решена без учёта всего взаимосвязанного комплекса экологических и социально-экономических аспектов этой проблемы.
Приватизация скота, проведённая в 1991 г., имела положительное значение. Произошли позитивные сдвиги в животноводческом производстве, благодаря переходу скота в частную собственность. Кроме того, это способствовало возрождению традиционного животноводства, кочевого образа жизни, процессу ренома-дизации.
Заинтересованность аратов в результатах своего труда позволила увеличить численность поголовья скота до 33,5 млн голов в 1999 г., но с 2000 по 2002 гг., в результате бескормицы и засухи, заметно сократилось поголовье скота, был нанесён значительный урон экономике страны.
Хотя социально-экономические последствия этого урона были смягчены ростом промышленного производства, всё же это свидетельствует о противоречивых тенденциях в развитии кочевого хозяйства. Как отмечает Г.С. Яскина, «глубокая зависимость кочевого хозяйства, а значит, и уровня жизни номадов, от природных условий расшатывает материальную базу животноводства, о чём свидетельствует огромная гибель скота зимой 2000–2001 гг., как частный, однако, случай, циклично повторяющихся катастроф такого рода»2.
Отмечая положительные стороны перехода к рыночным механизмам, нельзя не сказать о том, что с переходом к рыночной экономике кочевники начали переориентировать свои хозяйства на получение наибольшей прибыли. Если раньше применяемые номадами приёмы (соотношение в стаде разных пород, ритмичность кочёвок и т.д.) были направлены на ограничение потерь в трудные годы, а не на то, чтобы максимизировать свой доход, то в настоящее время в результате конъюнктуры на рынке продукции животноводческих хозяйств наблюдается отход от целесообразного использования естественных угодий. Ущерб, нанесённый естественным ресурсам, приводит к опустыниванию степных районов Центральной Азии. Примером нерационального использования природных ресурсов, без учёта веками накопленного кочевой цивилизацией опыта в сфере взаимодействия природы и общества, служит процесс опустынивания земель в степных районах Центральной и Северо-Восточной Азии, вызванный изменением соотношения видов скота в структуре поголовья стада.
Как пишет Б.В. Базаров, говоря о результатах прошедшей международной экспедиции «Трансформация кочевых цивилизаций…», «мы были свидетелями сложной, а местами и угрожающей экологической ситуации, связанной с опустыниванием земель. Ко всем причинам, существующим объективно, на наш взгляд, необходимо добавить и ещё одну. Рост цен на кашемир вызвал рост поголовья коз, а значит, и поголовья мелкого рогатого скота на гобийских пространствах Внутренней Монголии. Это дало резкое усиление антропогенной нагрузки на почву… Цена козьего пуха соответствовала конъюнктуре рынка. Вместе с тем козы имеют более мелкие зубы, острые копыта и неприхотливы к потребляемой пище. В начале весеннего периода араты гнали стада овец на весенние склоны и вместе с овцой стада коз буквально оголяли пастбища до хрупкой корневой системы. В результате начался сход больших масс песка на степь, а животные уже внизу продолжали начатое дело»1.
Все сказанное, безусловно, можно отнести и к Монголии, поскольку и здесь фиксируется существенный рост поголовья коз в структуре стада.
Структура поголовья стада формируется под воздействием имеющейся кормовой базы. Влияние внешней среды на соотношение в стаде тех или иных видов скота проявляется через географию кормопроизводства и непосредственно зависит от природных условий и от территориального распределения естественных кормо- вых угодий2. Веками выработанные оптимальные методы в данных экологических условиях ведения хозяйств были нарушены в связи со спросом на кашемир на мировом рынке.
Хрупкая экосистема степных пространств Центральной Азии обусловила высокую степень экологичности культуры номадов, проявляющейся в развитом комплексе духовных ценностей и системе воспитания, ориентированных на бережное отношение к природе, рациональное использование пастбищ. В этом ценность кочевой культуры, основанной на принципиально иной экономической базе – кочевом скотоводстве.
Естественноисторический характер процесса глобализации не должен стать фактором, обязательно исключающим многообразие форм человеческих сообществ, его неизбежность и нивелированность.
Культура кочевой цивилизации является столь же равноценной по отношению к оседлой; богатство её духовного наследия представляет собой жизнеутверждающий опыт в экстремальных природных условиях степных пространств. Накопленный огромный опыт развития кочевой цивилизации, ещё сохраняющийся в худонах, в быту аратов, требует к себе бережного отношения, что находит определённое понимание со стороны государства.
Программа «Культурная политика Монгольского государства» была утверждена в 1996 г. Великим Государственным Хуралом. Это стратегический документ, призванный определить основные принципы и направления культурной политики, имеющий целью сохранить и сберечь кочевую культуру, развивать её при правильном сочетании с оседлой культурой, выработать иммунитет против исчезновения монгольской культуры в эволюционных изменениях времени, поддерживать всеми силами от гибели национальную культуру и развивать её.
В связи с этим реализация культурной политики в условиях сосуществования кочевой и оседлой форм цивилизации вызвала необходимость разнообразных методов и средств обслуживания духовных потребностей населения.
Несмотря на видимые результаты этой политики, всё же приходится отмечать, что при анализе государственной культурной политики вырисовывается не очень удовлетворительная картина. Причины кроются в отсутствии конкретных исполнительных механизмов и организационных форм, низкой квалификации самих работников культуры и т.д.1 Решение проблем номадизма наталкивается на ряд трудностей, вытекающих из особенностей самой сущности кочевой формы хозяйства. «В основе проблемы номадизма в Монголии, – пишет В.В. Грайворонский, – лежит глубокое противоречие в развитии кочевой цивилизации между насущными потребностями сохранения и развития традиционного пастбищно-кочевого и полукочевого животноводства, с одной стороны, и объективно растущими потребностями и стремлением животноводов жить и работать в более благоустроенных современных условиях – с другой. Короче говоря, речь идёт о разнонаправленных и противоречивых тенденциях в развитии экономической и социальной сфер в рамках одного традиционного общества»2.
Необходимо отметить, что существует определённая сложность в управлении кочевниками, вызванная их мобильностью, в свою очередь обусловленной состоянием пастбищных угодий. В силу этого они являются малоуправляемой частью по отношению к остальному населению. Кочевой образ жизни не способствует успешной реализации социально-экономических, образовательных и иных программ, направленных на улучшение качества жизни.
Как пишет В.А. Пуляркин, «в большинстве стран интересы кочевников слабо интегрируются с основными направлениями национальной экономики, что порождает конфликты с правительственными инстанциями и разрабатываемыми ими планами подъёма народного хозяйства. К тому же высокая подвижность номадов затрудняет даже доведение до них подобных планов»3.
В то же время не совсем верно считать, что кочевая цивилизация не имеет возможности приспособиться к современному технологическому укладу, что научнотехнический прогресс сам по себе отрицает дальнейшее развитие кочевой цивилизации.
Уверенность монгольских учёных и экономистов, при разных их подходах к кочевой цивилизации, в необходимости сохранения кочевой скотоводческой экономики в общей структуре оставляет надежду на то, что нивелирующие последствия мировой глобализации не коснутся принципиальных основ кочевой культуры.
Монголия представляет собой страну, где теснейшим образом переплетаются кочевой образ жизни с оседлыми формами хозяйства и быта. Традиционный уклад соседствует с достижениями научно-технического прогресса, современного индустриального развития. Поэтому поиск модели гармоничного, эффективного сочетания пастбищно-кочевого животноводства и традиций кочевой цивилизации с новым технологическим укладом, стандартами, диктуемыми процессами глобализации, требует обращения к традициям и опыту кочевых цивилизаций.