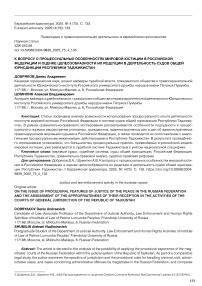К вопросу о процессуальных особенностях мировой юстиции в Российской Федерации и оценке целесообразности их рецепции в деятельность судов общей юрисдикции Республики Таджикистан
Автор: Добряков Д.А., Шумилин А.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу возможности использования процессуального опыта деятельности института мировой юстиции Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. В рамках сравнительно-правового исследования рассматриваются особенности подсудности и процессуального порядка рассмотрения уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях мировыми судьями в Российской Федерации, а также проводится их сопоставление с аналогичными процессуальными механизмами, действующими в Республике Таджикистан. В результате проведённого исследования установлено, что большинство процессуальных практик, применяемых в российской модели мировой юстиции, уже реализуются в судебной системе Таджикистана с учётом национальной специфики.
Мировые судьи, судебная система, суды общей юрисдикции, Российская Федерация, Республика Таджикистан, сравнительно-правовой анализ, судебно-правовая реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/140312459
IDR: 140312459 | УДК: 342.56 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_75_4_133
Текст научной статьи К вопросу о процессуальных особенностях мировой юстиции в Российской Федерации и оценке целесообразности их рецепции в деятельность судов общей юрисдикции Республики Таджикистан
В российской системе судов общей юрисдикции институт мировой юстиции, представленный мировыми судьями, занимает одно из ключевых мест в деле защиты прав, свобод и законных интересов участников общественных отношений. Объясняется это тем, что мировые судьи рассматривают и разрешают основной массив споров, выступая исключительно в качестве судов первой инстанции. Так, в одной только Москве в 2024 году мировыми судьями было рассмотрено более 2,6 млн дел и материалов, причём на одного мирового судью в среднем приходилось по 670 дел в месяц. При этом районные суды рассмотрели в общей сложности 760 тыс. дел (нагрузка составила примерно 151 дело в месяц) [9].
В соответствии с федеральным процессуальным законодательством и законодательством субъектов федерации в компетенцию мировых судей входит рассмотрение широкого круга уголовных, гражданских и административных дел, а также дел об административных правонарушениях, не отличающихся при этом высокой сложностью и не предполагающих разрешения значительных споров о праве, которые, в свою очередь, подлежат рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, начиная с районных судов. Здесь также уместно подчеркнуть, что с 1 января 2023 года, когда вследствие вступления в силу отдельных положений Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ были ликвидированы конституционные (уставные) суды субъектов федерации, мировые судьи остались единственным институтом судебной власти на региональном уровне (ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).
Выделение института мировой юстиции и отнесение его к региональному уровню судебной системы позволяет, как представляется, помимо решения сугубо политической задачи обеспечения участия субъектов федерации в организации и регулировании деятельности судебной власти (кадры судебных органов в соответствии с п. «л»
ч. 1 ст. 72 Конституции входят в предмет совместного ведения федерации и её субъектов), обеспечить максимально доступное и оперативное правосудие на низовом уровне, поскольку предполагается, что именно мировые судьи будут выполнять роль первой линии судебной защиты, тем самым не только способствуя повышению эффективности разрешения правовых споров, но также и укрепляя доверие общества к институтам публичной власти.
Одним из наиболее значимых направлений деятельности российских мировых судей является осуществление правосудия в сфере уголовного судопроизводства, а также выполнение иных функций, связанных с этой отраслью. В своей совокупности и тесной взаимосвязи нормы российского судоустройственного и уголовно-процессуального законодательства относят к подсудности исследуемого судебного звена уголовно-правовые споры, которые не отличаются повышенной степенью общественной опасности и не предполагают особой сложности при их разрешении. Подобный подход обеспечивает оперативное и эффективное правосудие в масштабах судебной системы страны и в полной мере соответствует мировой юстиции.
Компетенция мировых судей в сфере осуществления уголовного судопроизводства характеризуется рядом специфических черт, не присущих иным судебным учреждениям российской судебной системы. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации относит к компетенции мировых судей разрешение споров уголовно-правового характера, максимальное наказание по которым не превышает трех лет лишения свободы, за исключением составов преступлений, прямо указанных в УПК РФ (это, например, убийство, совершённое в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), иные преступления против жизни и здоровья, нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ) и ещё в общей сложности несколько десятков составов преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ). Также примечательной особенностью компетенции мировых судей в России является прерогатива по рассмотрению дел частного обвинения (ч. 5 ст. 32 УПК РФ).
Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан по-разному определяет перечень преступлений, относящихся к делам частного обвинения. Общим в обоих государствах является отнесение к данной категории дел умышленного причинения лёгкого вреда здоровью и нанесения побоев. В то же время российским уголовным законодательством по-прежнему установлена ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ), также отнесённую к числу дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), тогда как в таджикистанской правовой системе указанное деяние было декриминализовано и переведено в разряд административных правонарушений. Российский законодатель также пошёл было по пути декриминализации клеветы (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), однако менее чем через год вернул соответствующее деяние в число уголовно-наказуемых (Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ).
Новой для таджикистанского уголовно-процессуального законодательства практикой стало включение в число дел частного обвинения преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав при условии отсутствия отягчающих обстоятельств, тогда как в Российской Федерации аналогичные преступления (в частности, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 и ст. 180 УК РФ) являются делами частно-публичного обвинения. Такая дифференциация может быть сочтена примером постепенной эволюции национальных правовых систем исследуемых государств и стремления местного законодателя к адаптации некогда общей нормативной базы к актуальным общественным вызовам и совершенствованию механизмов уголовно-правовой защиты общественных отношений.
Отнесение дел частного обвинения к компетенции мировых судей и присущие этим делам процессуальные особенности являются, пожалуй, основной отличительной чертой мировой юстиции в части осуществления уголовного судопроизводства, применительно же к остальным категориям дел о каких-либо принципиальных отличиях в процессуальной деятельности мировых судей говорить не приходится.
При этом уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан регламентирует производство по делам частного обвинения практически идентич- но, отличаясь лишь тем, какие субъекты осуществляют уголовное преследование и, соответственно, правосудие [5, c. 175–180].
Другим важным направлением деятельности мировых судей в России является отправление правосудия в сфере гражданского и административного судопроизводства, а также выполнение иных процессуальных функций, непосредственно связанных с этими отраслями процесса.
Следует отметить, что деятельность мировых судей в указанных сферах строго регламентируется специализированными и кодифицированными нормативно-процессуальными актами (Кодексом административного судопроизводства и Гражданским процессуальным кодексом соответственно). Такой подход отражает специфику российской судебно-процессуальной модели, ориентированной на чёткое разделение судебных процедур в зависимости от категории правовых взаимоотношений и формирование самостоятельных массивов процессуального законодательства для каждого вида судопроизводства.
В Республике Таджикистан сложилась иная судебно-процессуальная модель, которая устанавливает отличные от российской регулирование судебных процедур и разграничение видов судопроизводства. Например, дела, связанные с семейными правоотношениями, фактически и юридически выделены из гражданского судопроизводства в самостоятельный вид процесса, обладающий специфическими чертами и правовым содержанием. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 2 Конституционного закона Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1084 «О судах Республики Таджикистан» семейное судопроизводство здесь выделено в качестве одной из форм осуществления судебной власти наравне с конституционным, гражданским, экономическим, уголовным и административным.
Впрочем, полноценного кодифицированного процессуального акта, посвящённого регламентации осуществления семейного судопроизводства, до настоящего времени не принято, и его регламентация осуществляется преимущественно на основании соответствующих решений Верховного Суда Республики Таджикистан (см.: Постановление Пленума Верховного Суда от 16.12.2004 № 12 «О применении судами норм Семейного кодекса Республики Таджикистан при рассмотрении дел о взыскании алиментов на содержание детей»; Постановление Пленума Верховного Суда от 23.06.2010 № 31 «О перечне семейных дел, рассматриваемых судами Республики Таджикистан»; Постановление Пленума Верховного Суда от 23.12.2011 № 8 «О судебной практике по взысканию государственной пошлины по гражданским и семейным делам»; Постановление Пленума Верховного Суда от 14.06.2013 № 4 «О процессуальных сроках рассмотрения и разрешения гражданских и семейных дел»), что едва ли достаточно. Разработка и принятие обособленного процессуального закона, регулирующего производство по семейным делам и учитывающего принципиальные особенности таких дел в части предмета спора и субъектного состава правоотношений, как представляется, повысит прозрачность и эффективность судебной защиты прав граждан (в том числе, особо уязвимой категории населения – несовершеннолетних) а также позволит более чётко разграничить компетенцию судебных учреждений, укрепляя принципы законности и доступности правосудия в стране.
Компетенция мировых судей в сфере осуществления административного и гражданского судопроизводства обладает рядом специфических черт и предполагает использование особых процедур, не характерных для процессуальной деятельности других звеньев российской системы судов общей юрисдикции. Так, законодательство об административном судопроизводстве относит к компетенции мировых судей рассмотрение в приказном порядке требований о взыскании обязательных платежей и санкций (ст. 17.1 КАС РФ), чем, собственно, подсудность мировых судей в административном процессе и исчерпывается.
В свою очередь, гражданское процессуальное законодательство помимо рассмотрения требований о выдаче судебных приказов включает в подсудность мировых судей также семейно-правовые споры, связанные с расторжением брака при отсутствии спора о детях или разделе совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей, имущественные споры общего характера (за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности) при цене иска до 50 тыс. рублей, а также имущественные споры в сфере защиты прав потребителей при цене иска до 100 тыс. рублей (ст. 23 ГПК РФ).
Таким образом, деятельность мировых судей в Российской Федерации в административном и гражданском процессе в основном сводится к приказному и упрощённому исковому производству.
При этом многие российские исследователи-процессуалисты справедливо подчеркивают, что введение института упрощенного искового про- изводства в деятельность мировых судей не возымело столь положительного эффекта, как в случае с деятельностью судов районного уровня. Первоначально предполагалось еще больше упростить деятельность мировых судей, однако на практике достаточно малая часть споров, подсудных мировым судьям, попала под рассмотрение в указанном порядке, кроме того, данный процессуальный механизм оказался менее оперативным и эффективным, чем приказное производство, причиной чему является по большей части недостаточная проработанность норм гражданско-процессуального законодательства в данной сфере [2, 4].
Распределение большинства поступающих на рассмотрение мировых судей малозначительных административных и гражданских правовых споров между двумя упрощенными судебными процедурами (приказной и собственно упрощённой исковой) позволяет институту мировой юстиции обеспечивать оперативное, доступное, а главное, процессуальное и финансово-экономичное правосудие, разгружая при этом суды районного звена и высвобождая их материально-технические и кадровые ресурсы для разрешения более сложных и стоимостно-значимых правовых конфликтов.
При обращении к сравнительному анализу описанного российского опыта с моделью, сложившейся в Республике Таджикистан, усматривается, что в обеих странах при осуществлении правосудия по административным, гражданским, семейным и иным условно смежным делам реализован и активно применяется механизм приказного (неискового) производства, однако его содержание и объем применения имеют определённые отличия. Так, в Таджикистане приказное производство охватывает более широкий круг дел, поскольку не содержит ограничений по размеру требований, главным и по сути единственным критерием является их бесспорность. В России же приказное производство применяется при наличии бесспорности требований и только в случае, если сумма требования в денежном эквиваленте не превышает установленный в законе размер.
Наконец, нельзя не упомянуть ещё один значимый круг вопросов, разрешение которых отнесено в России к компетенции мировых судей, а именно – отправление правосудия по делам об административных правонарушениях, а также выполнение иных процессуальных функций, непосредственно связанных с данной деятельностью. Законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях (пред- ставленное в виде совокупности федерального КоАП РФ и аналогичных кодексов или законов субъектов федерации) закрепляет за мировыми судьями достаточно широкий круг категорий правовых споров и полномочий, связанных с привлечением лиц к административной ответственности или освобождением от неё. В рамках данной процессуальной деятельности мировая юстиция осуществляет также и судебный контроль за соблюдением прав и законных интересов участников соответствующих общественных отношений, обеспечивая судебную защиту от неправомерных действий и решений со стороны органов исполнительной власти и должностных лиц, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, не отнесённых к подсудности мировых судей, и реализующих меры административной ответственности.
И если российский законодатель объединил все, как материальные, так и процессуальные, нормы об ответственности за административные правонарушения в одном кодифицированном федеральном законе (и его региональных аналогах), то законодатель Республики Таджикистан избрал иную стратегию нормативно-правового регулирования производства по деликтным делам, разграничив материальные и процессуальные нормы в отдельных кодифицированных актах. Так, материально-правовые нормы, устанавливающие составы административных правонарушений и определяющие полномочия органов государственной власти (преимущественно исполнительной) по расследованию, самостоятельному привлечению к административной ответственности либо передаче в соответствующие органы судебной власти республики для рассмотрения, закреплены в Кодексе Республики Таджикистан об административных правонарушениях (принят Законом Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 г. № 455). Процессуальные же нормы, регулирующие порядок производства по этим делам и прочие аспекты деятельности судебных органов и уполномоченных должностных лиц, содержатся в отдельном нормативном акте – Процессуальном кодексе об административных правонарушениях Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г. № 975, принятом одновременно с исключением процессуальных положений из Кодекса об административных правонарушениях (Законом Республики Таджикистан от 22 июля 2013 года № 980).
Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что, хотя в Российской Федерации большая часть дел об административных право- нарушениях, включённых законодателем в компетенцию судебных органов, рассматривается мировыми судьями, отдельные категории дел отнесены к подсудности судей гарнизонных военных судов, районных судов и даже арбитражных судов (ст. 23.1 КоАП РФ).
С другой стороны, в Республике Таджикистан дела об административных правонарушениях могут рассматривать не только судьи городов и районов (то есть судьи низового звена системы судов общей юрисдикции), но также и судьи областных судов и даже высшей судебной инстанции – Верховного Суда Республики Таджикистан (ст. 93 Процессуального кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан). При этом российское законодательство об административных правонарушениях также упоминает Верховный Суд Российской Федерации, но лишь в контексте возможности направления в этот судебный орган запроса о правовой помощи по вопросам его судебной деятельности (п. 1 ч. 2 ст. 29.1 КоАП РФ).
В целом, современные модели осуществления судопроизводства по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации и Республике Таджикистан имеют значительное сходство с точки зрения процессуальных механизмов и их правовой регламентации [3, c. 152–156], а принципиальными отличиями являются различные подходы законодателей рассматриваемых стран к составу как соответствующих нормативных правовых актов, так и судей, уполномоченных рассматривать данную категорию дел.
Подводя итог проведённому исследованию, представляется возможным заключить, что вышеизложенное свидетельствует о высокой степени сходства между современными процессуальными механизмами, применяемыми в российском институте мировой юстиции, и теми, что используются в практике республиканских судебных учреждений Таджикистана. Подсудность и процедурные особенности мировой юстиции в Российской Федерации изначально сконструированы таким образом, чтобы отнести к компетенции этого звена судебной системы малозначительные, несложные, в существенной части бесспорные и притом массовые категории дел, разрешение которых не требует значительных ресурсных затрат, в том числе за счёт возможности широкого использования специальных упрощённых процедур судопроизводства, обеспечивающих оперативность и доступность правосудия.
Как следствие, мировые судьи в России являются первичным звеном судебной защиты прав, свобод и законных интересов участников общественных отношений в повседневных спорах, а также механизмом реализации бесспорных прав и обязательств (в том числе и в интересах государства). Подобный подход законодателя иллюстрирует стремление к диверсификации процедур, ориентированных на различные масштабы, характер и сложность рассматриваемых судами дел. В связи с этим очевидно, что специфика мировой юстиции заключается не в особом порядке рассмотрения административных дел, а в их предметной направленности и массовом характере, позволяющем обеспечить оперативность, доступность и эффективность отправления правосудия на низовом уровне. Такой подход к распределению дел способствует разгрузке вышестоящих судебных органов, позволяя им сосредоточиться на более сложных и социально значимых правовых спорах.
В то же время в Республике Таджикистан, несмотря на отсутствие института мировой юстиции или его функционального аналога, тождественные цели реализуются посредством применения упрощённых процессуальных механизмов судебными органами всех уровней, причём такие механизмы адаптированы к сложившейся в Таджикистане модели осуществления правосудия, учитывающей его унитарную природу и организационную специфику.
Следует также иметь в виду различную нагрузку на судебные системы России и Таджикистана: в Российской Федерации выделение мировой юстиции и включение в её компетенцию рассмотрения достаточно простых дел в большинстве видов судопроизводства обусловлено массовостью таких дел и колоссальной нагрузкой на судебную систему в целом. Так, если в 2024 году в России судами общей юрисдикции в первой инстанции было рассмотрено по существу с вынесением решения (приговора) около 33,1 млн гражданских и административных дел [6], 505 тыс. уголовных дел [6] и 5,9 млн дел об административных правонарушениях [7] (то есть всего почти 40 млн дел), то в Таджикистане в этом же году судами было рассмотрено в общей сложности 169 614 дел, из которых 13,3 тыс. касались гражданских правоотношений, 46 тыс. – семейных, а уголовных дел и дел об административных правонарушениях было 12 тыс. и 75,3 тыс. соответственно [8].
Ранее в доктрине встречались предложения «о необходимости скорейшего учреждения мирового суда в Таджикистане», поскольку «территориальное приближение суда к населению, упрощение процедуры его работы делают этот институт максимально доступным для граждан, особенно в сельской местности» [1, с. 11]. В настоящее время подобная дискуссия фактически не ведётся, поскольку разработка и учреждение собственной модели мировой юстиции в Республике Таджикистан или её заимствование из Российской Федерации не представляются необходимыми и не имеют объективной правовой или практической целесообразности, что, впрочем, не исключает востребованности исследования соответствующего опыта и поиска путей для дальнейшего совершенствования национальной судебной системы и процессуального законодательства.