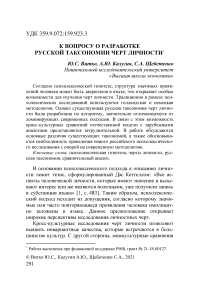К вопросу о разработке русской таксономии черт личности
Автор: Витко Ю.С., Калугин А.Ю., Щебетенко С.А.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Психологические исследования
Статья в выпуске: 1 (5), 2021 года.
Бесплатный доступ
Согласно психолексической гипотезе, структура значимых проявлений человека может быть закреплена в языке, что открывает особые возможности для изучения черт личности. Традиционно в рамках психолексических исследований используются голландская и немецкая методологии. Однако существующая русская таксономия черт личности была разработана по алгоритму, значительно отличающемуся от доминирующих современных подходов. В связи с этим возможность кросс-культурных сравнений отечественной модели с зарубежными аналогами представляется затруднительной. В работе обсуждаются основные различия существующих таксономий, а также обосновывается необходимость проведения нового российского психолексического исследования с опорой на современную методологию.
Психолексическая гипотеза, черты личности, русская таксономия, сравнительный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147236880
IDR: 147236880 | УДК: 359.9.072:159.923.3
Текст научной статьи К вопросу о разработке русской таксономии черт личности
В основании психолексического подхода к описанию личности лежит тезис, сформулированный Дж. Кеттеллом: «Все аспекты человеческой личности, которые имеют значение и вызывают интерес или же являются полезными, уже получили запись в субстанции языка» [1, с. 483]. Таким образом, психолексический подход исходит из допущения, согласно которому значимые или часто повторяющиеся проявления человека имплицитно заложены в языке. Данное предположение открывает широкие перспективы исследования личностных черт.
Кросс-культурные исследования черт личности позволяют выявить инвариантные качества, которые встречаются в большинстве культур. С другой стороны, межкультурные сравнения открывают возможности изучения вариативности значимых проявлений личности, закрепленных в языке и опосредованных социокультурным влиянием.
В науке сформировалось две традиции изучения культурных особенностей: etic и emic подходы [2, 3]. Термины «emic» и «etic» были введены К. Пайком [4] в середине прошлого столетия в качестве решения философской проблемы объективности в исследованиях человека. Данный методологический ход был использован антропологами с целью изучения культуры как изнутри социальной группы (emic), так и с точки зрения внешнего наблюдателя (etic). Постепенно emic и etic традиции были осмыслены теоретиками психологии личности и использованы в качестве методологического базиса исследователями черт [5–8].
В рамках etic-подхода реализуется адаптация определенной модели, разработанной внутри одной культуры, на иной регион, язык и культуру. Предполагается, что данный подход позволяет устанавливать универсальные факторы индивидуальных различий, характерные для многих культур. Открывается возможность кросс-культурного сравнения характеристик личности в пределах заранее установленной системы координат. Примером etic-подхода является широкое распространение опросников «Большой пятерки» [9, 10], модели, изначально разработанной с использованием англоязычного массива данных. Данная модель была апробирована в более чем 50 странах, и ее пятифакторная структура в целом подтверждалась, что позволяет считать ее достаточно универсальной [11]. Такой подход позволяет проводить сравнительный анализ, однако стирает культурноспецифические особенности, присущие тому или иному этносу.
Emic-подход напротив, подразумевает проведение эксплора-торного исследования вне изначально определенной модели. Изначально данная традиция возникла как реакция на возрастающую монополию западных моделей, которые не обеспечивали адекватного представления о человеческом поведении и чертах личности за пределами англоязычной среды. Основной задачей данной исследовательской методологии для теории черт является поиск индивидуальных различий, характерных для конкретного культурного контекста [12]. Появляется возможность описания культурно-специфичной факторной структуры 292
личностных черт. Еще одним следствием emic-подхода является возможность сравнительного анализа между культурноспецифическими моделями. В русле emic-подхода выполняются все известные на данный момент психолексические исследования, посвященные выявлению национальной таксономии черт личности, среди которых можно отметить немецкий [13], голландский [14], испанский [15], итальянский [16] и другие таксономические проекты.
В данной работе мы рассматриваем наиболее крупные методологические традиции к изучению описаний черт личности в языке, разработанные в рамках emic-подхода, – голландскую и немецкую. Мы сравниваем их с отечественными разработками и обсуждаем возможные проблемы кросс-культурных сравнений российской факторной модели с западными аналогами.
Голландский проект таксономии личности проводился Де Раадом и коллегами [14] в университете Гронингена (Нидерланды). Эксперты (студенты различных направлений) должны были произвести разделение слов-дескрипторов по двум критериям – «природы» и «личности» [17]. Критерий природы применялся к прилагательным. Согласно инструкции, эксперту следовало ответить на вопрос, можно ли использовать данное понятие в предложении «Он/Она [прилагательное] по своей природе». Критерий личности относился к ситуации, когда дескриптор мог использоваться для ответа на вопрос «Мистер/Мисс X, что он/она за человек?». Для обоих критериев была использована бинарная шкала вариантов ответа («да/нет»). В результате был получен список из 1203 подходящих дескрипторов. Далее список был использован для самооценки и оценки сверстников в студенческой группе. В результате была отобрана треть наиболее высокоранговых слов. Использование листов оценки реальных людей осуществляет переход к чертам личности от понятий в лексическом смысле.
Сравнение выборок из двух разных стран, говорящих на голландском языке –Голландии и Бельгии, привело к дальнейшему сокращению списка дескрипторов [18]. Были исключены слова, отмеченные как полезные для описания человека только в одной стране, а также дескрипторы, несущие оттенок половых различий. Далее из списка были удалены понятия, которые имели 293
крайне негативное значение, а также слова, которые имели слишком малое количество синонимов и вариаций [19]. В последнем случае предполагалось, что значимые черты или признаки поведения имеют тенденцию кодироваться в языке более, чем одним понятием.
Немецкая методология является наиболее распространенной среди психолексических исследований, выполненных в рамках emic-традиции [13]. Можно предположить, что ее популярность частично обусловлена подробным алгоритмом процедур на всех этапах исследования. Это делает немецкую методологию удобной к использованию в региональных таксономических проектах. Предполагалось, что понятие считается относящимся к личности, если оно позволяет отличить поведение одного человека от другого [20]. В этом случае отбираются слова, относящиеся к существительным и прилагательным. В результате анализа факторов голландской и американской таксономических групп немецкие исследователи выделили шесть категорий для терминов-кандидатов: 1) устойчивые черты характера; 2) состояния и настроения; 3) действия; 4) социальные роли, отношения и аффекты; 5) способности и таланты; 6) внешний вид и физические характеристики.
Помимо этого, были разработаны критерии исключения слов. Предлагалось сократить термины, относящиеся к одной из следующих групп:
-
• применим ко всем людям;
-
• относится к географическому происхождению, национальности или профессии;
-
• относится только к части тела человека;
-
• метафорический или незначительный личностный смысл.
Таким образом, голландская и немецкая методологии позволяют стандартизировать процедуру формирования списков слов-описателей, уменьшить вероятность артефактных данных внутри одного исследования, а также переносить технологию отбора слов на другие национальные корпуса. Однако отметим, что выделение категорий в первом методе произошло апостериорным путем из полученных данных голландского исследования.
Таким образом, немецкий подход представляет собой наиболее тщательно разработанную и описанную методологию, которая используется в большинстве исследований национальных таксономий черт личности (напр., [21–23]). Немецкий подход претендует, тем самым, на статус единой эталонной традиции. Проведение национальных психолексических исследований с его использованием открывает широкие возможности для кросс-культурных сравнений таксономий [24].
В российских реалиях было реализовано несколько исследований в русле etic-традиции, посвященных адаптации вопросников «Большой пятерки» к русскоязычной популяции (напр., [25– 27]). К настоящему моменту отечественная психология располагает надежными и валидными инструментами, измеряющими пятифакторную структуру личности. Однако реализация в России emic-подхода не столь однозначна.
Проект русской таксономии проводился независимо от западных исследований в связи с ограниченным доступом к современным в 1970-1980-х гг. работам иностранных коллег. Методологическим базисом таксономического проекта группы А.Г. Шмелева [28] стала традиция, разработанная в школах Ч. Осгуда и Дж. Келли, что отразилось на процедуре отбора словарей, формировании массива данных и их обработке. Под руководством А.Г. Шмелева был составлен первый тезаурус понятий, описывающих личностные черты, в который вошли 2090 слов. В результате анализа данных была получена латентная структура, состоящая из 15 факторов. При втором сборе данных, проведенном в 1991 г. (первый этап проходил в 1986–1987 гг.), 13 факторов получили высокую оценку воспроизводимости, в то время как фасеты «уникальность, одаренность» и «радикальное новаторство» показали низкую конгруэнтность. А.Г. Шмелев, комментируя данные результаты, предполагает влияние эпохи Перестройки, происходившей в это время в российском обществе. Таким образом, изначальная 15-факторная структура может не отражать реалии настоящего времени ввиду серьезных социально-экономических изменений, произошедших в российском обществе за последние 30 лет.
В рамках русской таксономии использовалась процедура по типу «суждения с условной вероятностью» [29, с. 336]. Экспер-295
ту предлагалось представить человека, обладающего определенным признаком, а затем оценить, с какой вероятностью данный человек может быть охарактеризован другими чертами. Данная процедура представляет собой реализацию так называемой «интернальной» оценки, суть которой заключается в том, что респондент выносит суждение о сходстве понятий. Такой подход значительно отличается от общепринятых стандартов вынесения «экстернальных» суждений экспертами о реальных носителях личностных черт. Таким образом, существующую русскую таксономию можно назвать скорее лексической, чем психосемантической, поскольку в ее основе лежит обработка понятий и концептов в отрыве от суждений о чертах реальных людей. Некоторые авторы отмечают, что это методологическое различие затрудняет кросс-культурные сравнения русской таксономии [30].
Исследования русской таксономии были ограничены технологическим оснащением того времени. В результате произвести полный анализ отобранных авторами категорий компьютерными методами было невозможно [28]. Чтобы снизить влияние своих представлений о структуре личности на результаты, авторы прибегли к многоэтапной итеративной стратегии.
Еще одной характерной особенностью процедуры исследования группы А.Г. Шмелева является оценка слов профессиональными психологами, а не «наивными испытуемыми». Это не соответствует принятой западной методологии, и могло значительно повлиять на результаты экспертизы. Западные исследователи, анализируя русскую таксономию черт, отмечают, что среди отобранных существительных большая часть, по-видимому, описывает негативные характеристики [30]. Различия наблюдались и в содержательных характеристиках негативных черт: русская лексика отрицательных качеств наполнена в основном словами, связанными с гневом, вспыльчивостью и раздражительностью [28]. Для сравнения, в немецком лексиконе более выражены понятия тревоги, зависти и депрессии при описании человека [31, 32].
Л.Р. Голдберг и А.Г. Шмелев [33] сравнили русской лексику личностных черт с «Большой пятеркой», полученной на англоязычной выборке. Четыре из пяти факторов «Большой пятерки» 296
соответствовали русской таксономии, однако англоязычная «Эмоциональная стабильность» не получила однозначного русского эквивалента. Указанная выше специфика экспертных суждений в русском исследовании породила сложности интерпретации полученных результатов. По замечанию А.Г. Шмелева, более точное сопоставление станет возможным только при использовании единой схемы получения данных [33].
Таким образом, различия в методологии существующего российского таксономического исследования черт личности и аналогичных разработок за рубежом являются значительными в силу методологических различий, касающихся сбора и обработки данных. Кросс-культурное сравнение отечественной факторной модели и зарубежных факторных моделей в этой связи представляется затруднительным. На наш взгляд, априорное применение современного emic-подхода позволит получить более точную русскую таксономию личностных черт, доступную для межкультурного сравнительного исследования.
Библиографии ческий список
-
1. Cattell R.B. The description of personality: Basic traits resolved into clusters // The journal of abnormal and social psychology. 1943.
-
2. Benet-Martínez V., Waller N.G. Further evidence for the cross-cultural generality of the Big Seven factor model: Indigenous and imported Spanish personality constructs // Journal of Personality. 1997. Vol. 65, no. 3. P. 567–598.
-
3. Cheung F.M., van de Vijver F.J.R., Leong F.T.L. Toward a new approach to the study of personality in culture // American Psychologist. 2011. Vol. 66, no. 7. P. 593–603.
-
4. Pike K.L. Emic and etic standpoints for the description of behaviour // Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Pt. l. Glandale, Summer lnstitute of Linguistics, 1954. P. 135– 141.
-
5. Berry J.W. On cross-cultural comparability // International journal of Psychology. 1969. Vol. 4, no. 2. P. 119–128.
-
6. Eysenck H.J. The Biological Basis of Personality. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1969. 399 p.
-
7. Church A.T., Katigbak M.S. The emic strategy in the identification and assessment of personality dimensions in a non-Western culture // Journal of Cross-Cultural Psychology. 1988. Vol. 19. P. 140–163.
-
8. Goldberg L.R., Wheeler L. Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons // Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage, 1988. Vol. 2.
-
9. Digman J.M. Personality structure: Emergence of the five-factor model // Annual review of psychology. 1990. Vol. 41, no. 1. P. 417– 440.
-
10. Goldberg L.R. The structure of phenotypic personality traits // American psychologist. 1993. Vol. 48, no. 1. P. 26–34.
-
11. McCrae R.R., Terracciano A. Universal features of personality traits from the observer's perspective: data from 50 cultures // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 88, no. 3. P. 547 –561.
-
12. Saucier G., Thalmayer A.G., Bel-Bahar T. Personality descriptors ubiquitous across 12 languages // Journal of Personality and Social Psychology. 2014. Vol. 107. P. 199–216.
-
13. Angleitner A., Ostendorf F., John O.P. Towards a taxonomy of personality descriptors in German: A psycho-lexical study // European Journal of Personality. 1990. Vol. 4, no. 2. P. 89–118.
-
14. De Raad B., Mulder E., Kloosterman K., Hofstee W.K. Personality-descriptive verbs // European Journal of Personality. 1988. Vol. 2. P. 81–96.
-
15. Quevedo‐Aguado M.P., Iraegui A., Anivarro E.M., Ross P. Linguistic descriptors of personality in the Spanish language: A first taxonomic study // European Journal of Personality. 1996. Vol. 10, no. 1. P. 25– 34.
-
16. Di Blas L., Forzi M. An alternative taxonomic study of personality‐descriptive adjectives in the Italian language // European Journal of Personality. 1998. Vol. 12, no. 2. P. 75–101.
-
17. Brokken F.B. The language of personality (Unpublished doctoral dissertation) // University of Groningen, Groningen, the Netherlands, 1978.
-
18. De Raad B., Hoskens M. Personality-descriptive nouns // European Journal of Personality. 1990. Vol. 4. P. 131–146.
-
19. De Raad B. The replicability of the Big Five personality dimensions in three word-classes of the Dutch language // European Journal of Personality. 1992. Vol. 6, no. 1. P. 15–29.
-
20. Allport G.W., Odbert H.S. Trait-names: A psycho-lexical study // Psychological Monographs. 1936. Vol. 47, no. 21. P. 1–171.
-
21. Ruisel I. Analysis of personality descriptors in the Slovak language // Studia Psychologica. 1997. Vol. 39. P. 233–245.
-
22. Hřebíčková M. The lexical approach to personality description in the Czech context // Ceskoslovenska Psychologie [Czechoslovak Psychology]. 2007. Vol. 51. P. 50–61.
-
23. Mlačić B., Ostendorf F. Taxonomy and structure of Croatian personality-descriptive adjectives // European Journal of Personality. 2005. Vol. 19. P. 117–152.
-
24. De Raad B., Barelds D.P., Levert E., Ostendorf F. et al. Only three factors of personality description are fully replicable across languages: A comparison of 14 trait taxonomies // Journal of Personality and Social Psychology. 2010. Vol. 98, no. 1. P. 160–173.
-
25. Осин Е.Н., Рассказова Е.И., Неяскина Ю.Ю., Дорфман Л.Я., Александрова Л.А. Операционализация пятифакторной модели личностных черт на российской выборке // Психологическая диагностика. 2015. Т. 3. P. 80–104.
-
26. Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2000. 23 с.
-
27. Shchebetenko S.A., Kalugin A.Y., Mishkevich A.M., Soto C. J., John O.P. Measurement invariance and sex and age differences of the Big Five Inventory–2: Evidence from the Russian version // Assessment. 2020. Vol. 27, no. 3. P. 472–486.
-
28. Shmelyov A.G., Pokhil'ko V.I. A taxonomy-oriented study of Russian personality-trait names // European Journal of Personality. 1993. Vol. 7, no. 1. P. 1–17.
-
29. Wiggins L.M. Panel analysis: Latent probability models for attitude and behavior processes // Amsterdam: Elseiver, 1973.
-
30. Saucier G., Hampson S.E., Goldberg L.R. Cross-language studies of lexical personality factors / ed. by S.E. Hampson // Advances in personality psychology. Philadelphia, PA: Taylor & Francis, 2000.
-
31. Hofstee W.K., Kiers H.A., De Raad B., Goldberg L.R., Ostendor f F. A Comparison of Big-Five structures of personality traits in Dutch, English, and German // European Journal of Personality. 1997.
-
32. Saucier G., Ostendorf F. Hierarchical subcomponents of the Big Five personality factors: A cross-language replication // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 76, no. 4. P. 613–627.
-
33. Голдберг Л.Р., Шмелев А.Г. Межкультурное исследование лексики личностных черт: «Большая пятерка» факторов в английском и русском языках // Психологический журнал. 1993. Т. 14, № 4. С. 32–39.
Vol. 38, no. 4. P. 476–506.
P. 141–165.
Vol. 1. P. 1–36.
Vol. 11, no. 1. P. 15–31.
ON THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TAXONOMY OF PERSONALITY TRAITS
Yu.S. Vitko, A.Yu. Kalugin, S.A. Shchebetenko
HSE University
Список литературы К вопросу о разработке русской таксономии черт личности
- Cattell R.B. The description of personality: Basic traits resolved into clusters // The journal of abnormal and social psychology. 1943. Vol. 38, no. 4. P. 476-506.
- Benet-Martmez V., Waller N. G. Further evidence for the cross-cultural generality of the Big Seven factor model: Indigenous and imported Spanish personality constructs // Journal of Personality. 1997. Vol. 65, no. 3. P. 567-598.
- Cheung F.M., van de Vijver F.J.R., Leong F. T.L. Toward a new approach to the study of personality in culture // American Psychologist. 2011. Vol. 66, no. 7. P. 593-603.
- Pike K.L. Emic and etic standpoints for the description of behaviour // Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Pt. l. Glandale, Summer lnstitute of Linguistics, 1954. P. 135141.
- BerryJ.W. On cross-cultural comparability // International journal of Psychology. 1969. Vol. 4, no. 2. P. 119-128.
- Eysenck H.J. The Biological Basis of Personality. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1969. 399 p.
- Church A.T., KatigbakM.S. The emic strategy in the identification and assessment of personality dimensions in a non-Western culture // Journal of Cross-Cultural Psychology. 1988. Vol. 19. P. 140-163.
- Goldberg L.R., Wheeler L. Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons // Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage, 1988. Vol. 2. P. 141-165.
- Digman J.M. Personality structure: Emergence of the five-factor model // Annual review of psychology. 1990. Vol. 41, no. 1. P. 417440.
- Goldberg L.R. The structure of phenotypic personality traits // American psychologist. 1993. Vol. 48, no. 1. P. 26-34.
- McCrae R.R., Terracciano A. Universal features of personality traits from the observer's perspective: data from 50 cultures // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 88, no. 3. P. 547 -561.
- Saucier G., Thalmayer A.G., Bel-Bahar T. Personality descriptors ubiquitous across 12 languages // Journal of Personality and Social Psychology. 2014. Vol. 107. P. 199-216.
- Angleitner A., Ostendorf F., John O.P. Towards a taxonomy of personality descriptors in German: A psycho-lexical study // European Journal of Personality. 1990. Vol. 4, no. 2. P. 89-118.
- De Raad B., Mulder E., Kloosterman K., Hofstee W.K. Personality-descriptive verbs // European Journal of Personality. 1988. Vol. 2. P. 81-96.
- Quevedo-Aguado M.P., Iraegui A., Anivarro E.M., Ross P. Linguistic descriptors of personality in the Spanish language: A first taxonomic study // European Journal of Personality. 1996. Vol. 10, no. 1. P. 2534.
- Di Blas L., Forzi M. An alternative taxonomic study of personality-descriptive adjectives in the Italian language // European Journal of Personality. 1998. Vol. 12, no. 2. P. 75-101.
- Brokken F.B. The language of personality (Unpublished doctoral dissertation) // University of Groningen, Groningen, the Netherlands, 1978.
- De Raad B., Hoskens M. Personality-descriptive nouns // European Journal of Personality. 1990. Vol. 4. P. 131-146.
- De Raad B. The replicability of the Big Five personality dimensions in three word-classes of the Dutch language // European Journal of Personality. 1992. Vol. 6, no. 1. P. 15-29.
- Allport G.W., Odbert H.S. Trait-names: A psycho-lexical study // Psychological Monographs. 1936. Vol. 47, no. 21. P. 1-171.
- Ruisel I. Analysis of personality descriptors in the Slovak language // Studia Psychologica. 1997. Vol. 39. P. 233-245.
- Hrebickova M. The lexical approach to personality description in the Czech context // Ceskoslovenska Psychologie [Czechoslovak Psychology]. 2007. Vol. 51. P. 50-61.
- Mlacic B., Ostendorf F. Taxonomy and structure of Croatian personality-descriptive adjectives // European Journal of Personality. 2005. Vol. 19. P. 117-152.
- De Raad B., Barelds D.P., Levert E., Ostendorf F. et al. Only three factors of personality description are fully replicable across languages: A comparison of 14 trait taxonomies // Journal of Personality and Social Psychology. 2010. Vol. 98, no. 1. P. 160-173.
- Осин Е.Н., Рассказова Е.И., Неяскина Ю.Ю., Дорфман Л.Я., Александрова Л.А. Операционализация пятифакторной модели личностных черт на российской выборке // Психологическая диагностика. 2015. Т. 3. P. 80-104.
- Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2000. 23 с.
- Shchebetenko S.A., Kalugin A.Y., Mishkevich A.M., Soto C. J.,
- John O.P. Measurement invariance and sex and age differences of the Big Five Inventory-2: Evidence from the Russian version // Assessment. 2020. Vol. 27, no. 3. P. 472-486.
- ShmelyovA.G., Pokhil'ko V.I. A taxonomy-oriented study of Russian personality-trait names // European Journal of Personality. 1993. Vol. 7, no. 1. P. 1-17.
- Wiggins L.M. Panel analysis: Latent probability models for attitude and behavior processes // Amsterdam: Elseiver, 1973.
- Saucier G., Hampson S.E., Goldberg L.R. Cross-language studies of lexical personality factors / ed. by S.E. Hampson // Advances in personality psychology. Philadelphia, PA: Taylor & Francis, 2000. Vol. 1. P. 1-36.
- Hofstee W.K., Kiers H.A., De Raad B., Goldberg L.R., Ostendorf F. A Comparison of Big-Five structures of personality traits in Dutch, English, and German // European Journal of Personality. 1997. Vol. 11, no. 1. P. 15-31.
- Saucier G., Ostendorf F. Hierarchical subcomponents of the Big Five personality factors: A cross-language replication // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 76, no. 4. P. 613-627.
- ГолдбергЛ.Р., Шмелев А.Г. Межкультурное исследование лексики личностных черт: «Большая пятерка» факторов в английском и русском языках // Психологический журнал. 1993. Т. 14, № 4. С. 32-39.