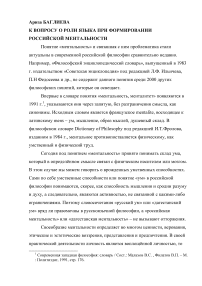К вопросу о роли языка при формировании российской ментальности
Автор: Баглиева Ариза Захрабовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Культура и общество
Статья в выпуске: 3, 2009 года.
Бесплатный доступ
Понятие «ментальность» и связанная с ним проблематика стали актуальны в современной российской философии сравнительно недавно. Например, «Философский энциклопедический словарь», выпущенный в 1983 г. издательством «Советская энциклопедия» под редакцией Л.Ф. Ильичева, П.Н Федосеева и др., не содержит данного понятия среди 2000 других философских понятий, которые он освещает.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164775
IDR: 170164775
Текст научной статьи К вопросу о роли языка при формировании российской ментальности
Понятие «ментальность» и связанная с ним проблематика стали актуальны в современной российской философии сравнительно недавно. Например, «Философский энциклопедический словарь», выпущенный в 1983 г. издательством «Советская энциклопедия» под редакцией Л.Ф. Ильичева, П.Н Федосеева и др., не содержит данного понятия среди 2000 других философских понятий, которые он освещает.
Впервые в словаре понятия «ментальность, менталитет» появляются в 1991 г.1, указываются они через запятую, без разграничения смысла, как синонимы. Исходным словом является французское mentalite, восходящее к латинскому mens – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад. В философском словаре Dictionary of Philosophy под редакцией И.Т.Фролова, изданном в 1984 г., ментальное противопоставляется физическому, как умственный и физический труд.
Сегодня под понятием «ментальность» принято понимать склад ума, который в определённом смысле связан с физическим носителем или мозгом. В этом случае мы можем говорить о врожденных умственных способностях. Сами по себе умственные способности или понятие «ум» в российской философии понимаются, скорее, как способность мышления и сродни разуму и духу, а следовательно, являются активностью, не связанной с какими-либо ограничениями. Поэтому словосочетания «русский ум» или «дагестанский ум» вряд ли правомочны в русскоязычной философии, а «российская ментальность» или «дагестанская ментальность» – не вызывают отторжения.
Своеобразие ментальности определяет во многом ценности, верования, этические и эстетические воззрения, представления и предпочтения. В своей практической деятельности личность является воплощённой личностью, то есть все способности личности (и познавательные, и темперамент, и само телосложение) вовлечены в целостный ответ миру, благодаря чему происходит этическое развитие личности. В этом смысле российская ментальность формирует личность иначе, чем дагестанская.
Что же является основанием своеобразия ментальности? Можно сказать вслед за Юнгом, что в основе человеческого поведения и предпочтений лежит «коллективное бессознательное», или, продолжая эту мысль, – в основе ментальности лежит «коллективное бессознательное». Но это коллективное бессознательное должно быть усвоено личностью. Коллективное бессознательное, говоря современным языком, – некий заархивированный файл, содержание которого неясно. Для того чтобы этот файл разархивировать, требуется некая программа, некий код, позволяющий произвести разархивирование и овладеть содержанием файла. Своеобразие российской ментальности, как и любой другой, состоит в наборе символов-кодов, позволяющих «разархивировать файлы» коллективного бессознательного.
В основе ценностных предпочтений, сокрытых в коллективном бессознательном, лежит неясное «предчувствие» совершенства. Подобное прочтение можно обнаружить и у других философов. Например, американский персоналист Берточчи, вслед за Шелером, полагает, что никакое воображение или рассуждение не может вывести совершенство из несовершенства. Только смутное осознание совершенства руководит анализом совершенства и движением из несовершенства. Берточчи и Миллард приходят к выводу, что «в универсуме существует напряжение между совершенством и несовершенством, и человек является детищем этого. Он не связан ценностно с тем, чему следует быть; его задача – дисциплинировать его жизнь желаний посредством обаяния идеала»1.
Обаяние идеала лежит в основе воображаемой идентификации, конституирующей фундаментальное переживание ментальности, на основе которого выстраивается более поздняя лингвинистическая, или символическая форма самоидентичности. Самосознание личности пытается подтвердить свою идентичность (в качестве русского, например), выражая себя посредством языка, что только усугубляет двусмысленность и замешательство в его сердцевине, обусловливая природу того, что Лакан, следуя за Леви-Строссом, называет «символическим». «Главенствующим фактором» в символическом взаимодействии является «объединение смыслов, которые, оказывается, никогда не разлагаются на чистые признаки реальности, но всегда отсылают назад к другим смыслам, значениям», делая невозможным постоянную или достоверную фиксацию значения «конкретно произносимого дискурса»1. Другими словами, самоидентифицирующаяся личность в каждый момент самоидентификации непрозрачна и непонятна для себя.
Лакановское постижение природы символического и его постоянное подчеркивание «скольжения» означающего над означаемым и их несовпадения, подтверждает, что даже «разархивированный файл» не является «однозначным». Помимо этого, многозначность символа взаимосвязана с многозначностью прочтений, которые (сами прочтения) ни в коем случае не являются равнозначными. Более того, овладение содержанием символического предполагает умение различать, а именно чувствительность к нюансам, которая формируется в процессе «разархивирования файлов» коллективного бессознательного.
Каким же образом формируется российская ментальность? Путём овладения символами коллективного бессознательного русского народа, врождённого, но «заархивированного». Для того чтобы «разархивировать», необходимо развивать свою чувствительность, умение различать и отличать
одно прочтение символа от другого. В этом случае «бесполезное» искусство является незаменимым, так как развивает чувствительность. Эта способность выражать нюансы прочтения различными образными средствами даёт множество «кодов», способствующих акту «разархивирования» и овладения содержанием.
Тонкость восприятия дифференциации мира сопровождается чувством удовольствия и неудовольствия. При этом восприятие дифференциации мира возможно при условии проведения основного различия, а именно различия между Добром и Злом. Аристотель писал: «Чувственное восприятие сходно с простым высказыванием и мышлением. Когда же оно доставляет удовольствие или неудовольствие, (душа), словно утверждая или отрицая, начинает к чему-то стремиться или чего-то избегать. И это испытание удовольствия или неудовольствия есть деятельность средоточия чувств (aisthetike mesotes), направленная на благо или зло как таковые»1.
Сокровищница русского искусства не только формирует российскую ментальность, но и способствует формированию широты русской души и становлению развитой, полноценной личности. Развитая человеческая чувственность ещё больше отделяет человека от животного, так как в чувственности животных преобладает эгоистическое чувство удовольствия и неудовольствия и исчезает колорит, свойственный возбуждающим их предметам. Наблюдательность, внимание к деталям, умение различать свои переживания свойств предметов и отличать свойства предметов от наших переживаний этих свойств позволяют формировать собственно человеческое восприятие мира. Потебня в своей книге «Слово и миф» писал: «Тем совершеннее наши чувственные восприятия, чем прекраснее нам кажется этот мир и чем более мы отделяем его от себя. Такое отделение не есть
отчуждение: оно только сознание различия»1. Поэтому в высших чувствах исчезает почти всякий след эгоистической оценки.
Более того, чувственное восприятие самих свойств предметов, безотносительно от возможности их использования, является тем излишком, который, собственно, отличает человека от животного. По мнению Лотце, особенностью человеческого восприятия окружающего мира является «склонность к бескорыстному, неутилитарному наслаждению. В этом совершенстве восприятий... одна из причин того, что человек есть единственное на земле говорящее существо»2. Овладение богатством русского языка существенно способствует формированию российской ментальности. Как подчеркивал Потебня, «в слове человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный душою другого... без размена слов человек при всевозможных внешних возбуждениях нравственно засыпает»3.
Иными словами, расширение словарного запаса способствует нравственному развитию личности. Как отмечает Потебня, в богатых языках исследователь находит 100–200 тыс. слов, но это лишь частица наличного капитала языка, когда берётся во внимание лишь одна какая-либо форма языка известного слова. Шекспир употреблял 13–15 тыс. слов, мы имеем в своем распоряжении 500–1000 слов. Конечно, при этом имеется в виду активное использование словарного запаса. Данные цифры не однозначны, так как каждое слово, отдельно произнёсенное, есть уже сумма, то есть объясняет новое восприятие через сравнение его с прежним, с коим новое сходно в одном пункте. Этот-то пункт и есть представление. Представление даёт сознание единства и по отношению к значению, оно может быть названо образом значения. Значение, то есть то что в слове дано чувственным восприятием, представляет множество признаков, а представление, полагает
Потебня, представляет только один признак. Он писал: «Представление есть признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова»1.
Иными словами, сам мыслительный процесс начинается тогда, когда мы сравниваем наше восприятие с другими: или содержащимися в нашей душе, или в слове, в его многозначности. Новые мысли образуются на основании того, что данное восприятие дополняется и объясняется неким, пусть даже незначительным, запасом других наличных восприятий. Особенно важно при этом, что любое слово имеет две формы, одна из которых – слово с живым представлением, а вторая – слово с забытым представлением. Не только забытые слова великого русского языка, но и забытые формы-представления используемых ныне слов являются тем сокровенным запасом, который, при условии овладения конечно, и «запускает» сам мыслительный процесс.
Расширение словарного запаса способствует расширению сознания личности. При этом возникновение новых представлений и активизация старых значений слов и представлений влечёт за собой расширение возможностей «разархивирования файлов» коллективного бессознательного, связанных с увеличением набора кодов-значений или ключей, способствующих процессу разархивирования.
Расширение сознания и сама возможность формирования российской ментальности (как и любой другой) связана с неоднозначностью прочтения, с многозначностью подходов к овладению коллективным бессознательным. Поэтому работа, проделанная личностью, и усилия, затраченные ею при «разархивировании файлов», способствуют расширению границ российской ментальности. В самом представлении уже заложена возможность иного прочтения, так как представление, с одной стороны, устраняя массу признаков значения, облегчает обобщение, а с другой стороны, сам процесс обобщения указывает на то, что предмет не сводится к сумме признаков, отражённых в представлениях об этом предмете, что возможны признаки, которые ещё не даны нашему восприятию. Или, как писал Потебня, «предмет мысли не есть только совокупность (сумма) признаков, его составляющих, но заключает в себе возможность и новых признаков, вовсе не данных»1. Ясность представлений (и степень их влияния на другие) состоит не в большей или меньшей интенсивности нашего знания, а в экстенсивной полноте их содержания, когда припоминаются многочисленные и важные отношения, связанные с этим содержанием.
Если согласиться с Потебней, что внешняя форма слова – это членораздельный звук, содержание – нечто объективируемое посредством звука, а внутренняя форма – ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, которым выражается содержание, то именно этимологическое значение слова является носителем многочисленных отношений, а следовательно, от него зависит ясность и сила представления. Иногда мы не понимаем слово, так как его этимологическое значение нам не ясно, но мы осознаем, что чуждое в языке – чуждо лишь для мгновенно-индивидуальной природы. Более того, овладение этимологическим значением способствует нашему «выходу» за пределы этой индивидуальной природы, расширению нашего сознания, а упрощённый словарный запас значительно упрощает сам способ бытия, сводя его к повседневной, ординарной жизни.
Согласно Потебне, символизм языка может быть назван его поэтичностью, а забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова2. Чтобы избежать этой прозы жизни, личности следует расширять своё сознание за счёт расширения словарного запаса, при этом «разархивирование файлов» коллективного бессознательного будет способствовать восстановлению или активации забытых этимологических значений слов русского языка.
Изучение других языков также очень полезно для личности. Китайская мудрость гласит: «Сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек». Многозначность прочтения способствует расширению сознания. Ещё Гумбольдт отмечал, что «никто не думает при известном слове именно того, что другой». Чтобы понять высказывание другой личности, нам следует сравнить значения его слов со своими, а сравнение, начатое внутри одного языка, вовлекает в свой круг все остальные языки.
Таким образом, без постоянного расширения словарного запаса, без внимательного отношения к используемому слову, постижения всех нюансов использования данного слова, расширение сознания, а значит, и развитие российской ментальности – невозможно.
БАГЛИЕВА Ариза Захрабовна – заведующий кафедрой философии Дагестанского государственного педагогического университета