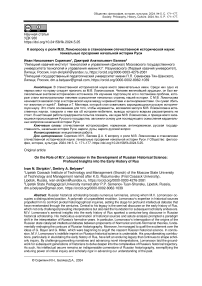К вопросу о роли М.В. Ломоносова в становлении отечественной исторической науки: гениальные прозрения начальной истории Руси
Автор: Скрипкин И.Н., Беляев Д.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В отечественной исторической науке много замечательных имен. Среди них одно из первых мест по праву следует признать за М.В. Ломоносовым. Человек величайшей эрудиции, он был великолепным знатоком исторических источников. Их изучение подтолкнуло его к постановке проблем, которые стали магистральными линиями осмысления начальных страниц нашей истории. С М.В. Ломоносова начинается вековой спор в исторической науке между норманистами и антинорманистами. Он сумел сбить тот ажиотаж от идей Г. Байера и Г. Миллера, который стал охватывать зарождающуюся русскую историческую науку. Это стало основанием для того, чтобы норманисты, восхваляя заслуги М.В. Ломоносова в естественных науках, говорили о нем как об историке-любителе, выводы которого всерьез рассматривать не стоит. В настоящей работе предпринята попытка показать, как идеи М.В. Ломоносова, и прежде всего касающиеся происхождения Русского государства, заложили основу для последующего осмысления кардинальных вопросов начальной истории Руси.
Отечественная историография, норманизм, антинорманизм, русская государственность, начальная история руси, варяги, русы, варяго-русский вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/149145913
IDR: 149145913 | УДК: 930 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.25
Текст научной статьи К вопросу о роли М.В. Ломоносова в становлении отечественной исторической науки: гениальные прозрения начальной истории Руси
1Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Липецк, Россия, ,
1Lipetsk Cossack Institute of Technology and Management (Branch) of the Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack University), Lipetsk, Russia, ,
В судьбе каждого народа на определенном этапе развития появляются свои гении. Российская земля дала миру их огромное количество. И среди них – М.В. Ломоносов. Человек удивительной судьбы, признанный гений разных наук, великий химик и физик, астроном и филолог. Между тем даже такая масштабная фигура, как М.В. Ломоносов, нуждается в защите. Его имя стало символом одного из направлений в исторической науке – антинорманизма. Поскольку это течение не являлось доминирующим, то и выводы ученого в лучшем случае признавались представителями противоположного течения – норманизма – интересными догадками дилетанта, всерьез не занимающегося историей. Отбрасывался в сторону при этом даже тот факт, что исторические работы М.В. Ломоносова были настольными книгами для просвещенной части русского общества на протяжении многих десятилетий. Ученый был крупнейшим знатоком известных тогда исторических документов, изучению которых он посвятил не один год упорного труда. Знакомству с источниками М.В. Ломоносов придавал огромное значение. Именно на базе их материала ученый строит доказательства своих утверждений. Историки, непосредственно занимающиеся изучением известного спора Г.-Ф. Миллера и М.В. Ломоносова, отмечают, что Михаил Васильевич оперирует гораздо большим числом документов, чем его оппонент. Бережное отношение к источнику, знание его содержания определяют качества настоящего историка. Именно таким и был М.В. Ломоносов, хотя норманисты прошлого и настоящего пытаются представить его как великого химика, физика, филолога, астронома, но не историка. Называя его ультрапатриотом, они утверждают, что занятая позиция не позволяла ученому критически посмотреть на данные источников и признать якобы их неоспоримость относительно определения этноса летописных варягов. Неслучайно поэтому выход в 2006 г. монографии известного в науке специалиста по начальной истории Руси В.В. Фомина с названием «Ломоносов: гений русской истории» (Фомин, 2006) вызвал широкую волну обсуждения среди историков – специалистов по данному периоду.
Итак, подчеркнем: отечественные историографические традиции так называемого «варягорусского вопроса» (определение этнической природы летописных варягов и образования Русского государства) так или иначе сводятся к идеям М.В. Ломоносова, либо развивая их (антинорманизм), либо опровергая (норманизм).
В силу своих профессиональных качеств историка М.В. Ломоносов критически проанализировал многочисленные и противоречивые данные по варяго-русскому вопросу, но из-за отсутствия достаточной научной базы истории того времени многие мысли ученого так и остались неразработанными идеями, развитием которых занимались его последователи. На некоторых заслугах великого ученого хотелось бы остановиться подробнее.
Во-первых, М.В. Ломоносов является родоначальником так называемой концепции Балтийской Руси – идеи о том, что помимо Киевской Руси существовали отдельные, независимые от нее политические образования в Прибалтике, называвшиеся Русиями.
Эта концепция есть развитие идеи ученого о том, что термин «русь» использовался на берегах южной части Балтийского моря задолго до так называемого призвания варягов. Историк отмечал: «Между реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху … называется Неменъ, а к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги-русь жили на восточно-южном берегу Варяжского моря, при реке Руссе, которая от сих варягов русских свое имя имеет» (Ломоносов, 1994: 36). Лексема «русь», как подчеркивал ученый, вообще имеет широкое распространение в южном регионе Прибалтики: «Литва, Жмудь и Подляхия исстари звались Русью, и сие имя не должно производить и начинать от времени пришествия Рурикова к новгородцам, ибо оно широко по восточно-южным берегам Варяжского моря простиралось от лет давных. Острова Ругена жители назывались рунами. Курской залив слыл в старину Русна; еще до рождества Христова, во время Фротона, короля датского весьма знатен был город Ротала, где повелевали владетельные государи. Положение места по обстоятельствам кажется, что было от устья полуденной Двины недалече Близ Пернова, на берегу против острова Езеля, деревня, называемая Ротала, подает причину думать о старом месте помянутого города, затем что видны там старинные развалины» (Ломоносов, 1994: 37–38).
Соответственно, впервые указав на существование отдельной от Киева Руси в Прибалтике, в южной ее части, историк тем самым открывал дорогу для более детального изучения собственно русской истории, так как она не ограничивается историей Киевского государства. Развитие этой идеи протекало как в форме ее критики, так и поддержки, в зависимости от общих представлений историков об этносе варягов.
Со стороны ученых-норманистов не раз предпринимались попытки затушевать идею распространения термина «русь» на южных берегах Балтийского моря и направить историческую науку по пути поиска несомненных доказательств того, что приглашенные варяги – это норманны, которые принесли в восточнославянские земли термин «русь».
Следует признать, что это происходило не без влияния другого величайшего российского историка – Н.М. Карамзина, который принял и своим авторитетом закрепил норманизм в исторической науке. С источниками не поспоришь, а потому Н. Карамзин признал существование Руси в устье Немана. В своем величайшем труде «История государства Российского» (Карамзин, 2003) ученый приводит данные, говорящие о том, что Рюрик с братьями пришли в Новгородскую землю из Пруссии (данные Степенной книги XVI в.1). Однако он считал, что русская область в Пруссии – это колония варягов-руссов, пришедших сюда из Швеции, из области Рослаген. Эти варяги-руссы могли усвоить славянский язык, раз они длительное время жили в славянском окружении, что способствовало после их призвания в Новгородскую землю быстрому слиянию славян и скандинавов в одно этническое целое, получившее название «русь» (Карамзин, 2003).
Эта идея колоний стала навязчивой фикцией в исторической науке: колониями норманнов объявлялись любые территории, применительно к которым, согласно источникам, упоминался термин «русь». Разумеется, если затушевывать сведения исторических документов, постоянно их интерпретировать так, чтобы они не разрушали стройную концепцию, то и сама она превратится в застоявшуюся догму, что, в общем-то, и произошло с норманизмом.
Если следовавшие данному убеждению историки старались опровергнуть утверждение М.В. Ломоносова о Руси в Прибалтике, то, соответственно, у исследователей-антинорманистов оно нашло широкую поддержку. Так, Ф.Л. Морошкин доказывал, что варяги вышли из региона Балтийского поморья (славянской области Вагрии), тогда как руссы – с острова Рюгена (Морошкин, 1842). Согласно исследованиям Д.И. Иловайского, «название руссов встречается и помимо нашей собственной Руси. На южном берегу Балтийского моря мы также находим в Средние века Русь (Неман), Пруссов, Рузию или Русцию, Рутенов, Руян или Ругиан и т. п.» (Иловайский, 1996).
Работы И.Е. Забелина были шагом вперед в развитии идеи М.В. Ломоносова о существовании отдельно от Киева Балтийской Руси: историк указал на то, что в Прибалтике существовало, как минимум, две Руси: одна – на острове Рюген, а вторая – в устье Немана. О существовании Руси на о. Рюген, с точки зрения ученого, недвусмысленно говорит «Повесть временных лет»2: «Русь такое же целое особое племя, как и другие поименованные варяги… Русь, по точному указанию летописца, сидела на своем особом этнографическом месте, никак ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Дании, ни в стране Англов. Она сидела только по соседству с двумя последними, с Данией и древнею Англиею» (Забелин, 1876: 284). Итак, родина Руси – славянское Балтийское поморье. Здесь же и родина варягов, в которых И.Е. Забелин видел славянское племя вагров. «Но кроме Ругенской Руси существовала на Балтийском же Поморье и еще Русь в устьях реки Немана … Равенский географ IX ст. указывает здесь в приморье жительство Роксолан, несомненно имея в виду этот Неманский Русс» (Забелин, 1876: 284). Ученый полагал, что происхождение этой Руси связано с миграцией ругов с о. Рюген (Забелин, 1876).
Таким образом, указание на существование нескольких Русий в Прибалтике было важнейшим достижением отечественной историографии дореволюционного периода в аспекте разработки идеи М.В. Ломоносова.
В советское время о связях Киевской Руси и Прибалтики писали не так много, но идея М.В. Ломоносова «не умерла». В.В. Фомин, обобщая исторические данные, отмечает, что в 1922 г. Н.М. Петровский доказал, что имевшее место в свое время переселение балтийских славян на озеро Ильмень объясняет близость их языка и отдельных черт народного быта с новгородскими славянскими племенами. К аналогичным выводам пришли в своих исследованиях С.П. Обнорский и Г.К. Зеленин3. Последний предположил, что эсты называли в начале роотс-руотси не шведов, а жителей Прибалтики и уже потом перенесли это наименование на скандинавов. Эстонское имя «Роотс-Руотси» ученый связывал с именем древнейшего прибалтийского народа руги: «Этим именем называлось славянское население острова Рюгена или Руяны, то есть опять-таки прибалтийские славяне. Тацит называет ругов германским племенем, но в IX– XII вв. почти все западноевропейские авторы отождествляют ругов с русскими, называя, например, киевскую княгиню Ольгу “королевою ругов”. И вряд ли тут мы имеем смешение по недоразумению» (Зеленин, 2000: 322–333).
Прорывом в изучении Балтийской Руси в постсоветской историографии стали работы А.Г. Кузьмина и его учеников, всколыхнувшие интерес у широкого круга читателей к варяго-русскому вопросу. Исследователь проделал колоссальную работу по объединению всех сведений, содержащих термин «русь». Согласно его теории, следует говорить о четырех видах Руссий, которые существовавали в Прибалтике. Одна из них – варяжская Русь, которая имела местоположение в Мекленбургской области. Именно оттуда, согласно летописи, был призван на княжение Рюрик с братьями. Другая, по сведениям историка, «русская» территория – остров Рюген и примыкающее к нему побережье. Третья – это провинция Роталия и Вик с островами Эзель и Даго. В качестве четвертой Руси называется территория в устье Немана и Западной Двины. Вероятно, что все эти четыре Руси существовали не синхронно, а их возникновение и расцвет приходятся на разные временные промежутки (Кузьмин, 2003)
Изучение источников привело А.Г. Кузьмина к гипотезе о разном этническом происхождении существовавших на Балтийском побережье VIII–IX вв. Руссий. Например, упоминаемая источниками «Руссия-тюрк» на побережье нынешней Эстонии, скорее всего, связана с алано-иранским миром, тогда как рутены могли иметь кельтские корни.
Таким образом, А.Г. Кузьмин завершает линию изучения Балтийской Руси, начатую М.В. Ломоносовым. В его работах в целостном виде представлена и на широком историческом, археологическом, лингвистическом материале доказана идея существования Руси (Русий) независимой от Киевского государства. Задача, стоящая перед современными исследователями, заключается, с нашей точки зрения, в том, чтобы детально исследовать каждую из Русий, выявить условия их развития и взаимодействия с восточнославянскими племенами и, впоследствии, с русскими княжествами.
Во-вторых, М.В. Ломоносов являлся родоначальником так называемой концепции АзовоЧерноморской (Причерноморской) Руси.
Идея о существовании термина «русь» в Причерноморье в научном аспекте прозвучала в связи с предположением Михаила Васильевича о происхождении руси от роксолан; последнее наиболее часто критиковалось учеными-норманистами, так как было установлено, что роксоланы – это иранский народ и к славянам он не имеет никакого отношения, но совсем в ином свете выглядит это утверждение, если признать, что изначально русь – не славянский народ (сегодня активно разрабатывается гипотеза Салтовской Руси).
Источники вывели М.В. Ломоносова на идею о том, что этимология слова «русь» связана с древним названием Волги – Ра: «Аланов и роксоланов единоплеменство из многих мест древних историков и географов явствует, и разность в том состоит, что алане общее имя целого народа, а роксолане речение, сложенное от места их обитания, которое не без основания производят от реки Раа, как у древних писателей слывет Волга… Ругенские славяне назывались сокращенно ранами, то есть с реки Ры (Волги), и россанами. Рось-река, от западо-южной стороны впадающая в Днепр, и другие того ж имени воды в российских пределах, а особливо город Старая Руса, доказывают бывшие в древности жилища россов, переселившихся от Волги к западу, которые по своему имени новые поселения называли, как и восточное плечо реки Немени проименовали, наподобие других пресельников Русою» (Ломоносов, 1994: 58–59).
Развитие этой идеи М.В. Ломоносова также протекало в двух направлениях – норманизма и антинорманизма. Первоначально приверженцы первого пытались представить сведения о Руси в Причерноморье как недостоверные, а саму Русь – мифической. Первым ее «запретителем» был А.Л. Шлецер. И.Е. Забелин вполне справедливо заметил: «Шлецер, не зная, что делать с Осколь-довыми Руссами, очень помешавшими его воззрению на скандинавство Руси, совсем их исключил из Русской истории и строго приказал вперед никогда о них не упоминать» (Забелин, 1876: 72). Затем в среде историков-норманистов появилась идея о том, что Русь в Причерноморье – это колония скандинавов, возникшая здесь до летописного призвания. Концепция стала очень популярной в дореволюционной, советской и современной историографии и ее защищали великие историки из числа сторонников норманского начала Руси. Так, в 1838 г. М.П. Погодин писал: «Может быть, это была колония варяжская со времен Аскольда или Святослава, от которых и пошло название Русского моря» (Погодин, 1846). Норманист С.М. Соловьев посчитал «русь», так же, как и «варягов», полиэтнонимом, которым называли на юге людей-мореплавателей, живших по берегам морским (отсюда название Черного моря – Русское) (Соловьев, 1988: 54).
В советской историографии, остававшейся преимущественно на позициях норманизма, была популярной идея о трех центрах Руси – Куябе, Славии и Арсании (Артании). Под последней понималась Причерноморская Русь. Так, В.А. Пархоменко считал, что к моменту формирования Русского государства все восточное славянство делилось на три крупные группы: северо-восточную, юго-восточную и юго-западную. Юго-восточная, или хазарская, группа населяла с VI в. тер- ритории к северу от Азовского моря и включала в себя племена бедующих полян, северян, вятичей и радимичей, составлявших военный союз. В византийских источниках он известен под названием «Анты», а в более поздних вариантах – «Рос», у восточных авторов – Артания. Уже во второй половине IX в. Юго-Восточная Русь должна была образовать свой самостоятельный центр, которым, по летописным данным, к началу IX в. оказалась Тмутаракань (Пархоменко, 1924).
В советской исторической науке Причерноморская Русь изначально рассматривалась как объединение славян (антов). Однако археологические находки опровергли раннее проникновение славян в Причерноморский регион. Дискуссии о южном центре Руси с позиции ее славянского происхождения зашли в тупик.
Большинство современных историков-норманистов, отстаивающих северное, а точнее скандинавское происхождение этнонима «русь», признают существование какой-то Южной Руси, но связывают ее с деятельностью норманнов, которые якобы создали колонию (колонии) на юге будущего Киевского государства еще до летописного призвания. Так, Г. Лебедев, считая совмещение правления летописных Аскольда и Дира искусственным, предполагал, что Дир предшествовал Аскольду, а державой этого правителя являлось Среднее Поднепровье, земля полян, являющаяся достаточно мощным протогосударственным образованием, пытавшимся наладить дипломатические отношения с Византией. Именно послы Дира, оказавшиеся свеонами, попали к франкскому императору Людовику Благочестивому в 839 г., о чем сообщают Бертинские анналы. По мнению историка, Дир, норманский конунг, правил в Поднепровье в 838–860 гг., его сменил другой скандинав, Аскольд, властвовавший в 860–882 гг. (Лебедев, 2002).
Разрешение проблемы Азово-Черноморской Руси как области, где встречается термин «русь» независимо от Киева и Новгорода, с позиций антинорманизма после М.В. Ломоносова впервые было представлено в трудах Г. Эверса, который пришел к выводу, что нападение на Царьград в 860 г. было осуществлено не из Киева, а с Северного побережья Черного моря (Evers, 1808). Здесь, в Причерноморье, как считал историк, селился народ рос или рус, который и дал начало Русскому государству. Поначалу этот народ ученый связал с хазарами, а затем стал рассматривать как особый причерноморский этнос. Россы-роксоланы, по Г. Эверсу, населяли первоначально территории на Северном Кавказе между Черным и Каспийским морями и входили в состав Хазарской державы, что дает основания ученому называть их «казарские русы» или «черноморские росы». Впоследствии, как утверждает Г. Эверс, эти племена смешались с «новгородскими и киевскими словенами, которые от сего назывались россы». Ученый полагал, что «естественнее искать руссов при Русском море, нежели при Варяжском» (Evers, 1808).
Одним из наиболее активных поборников Приазовской Руси в 70–80-х гг. XIX в. был уже упомянутый нами Д.И. Иловайский, которому принадлежит концепция южного, славяно-болгарского происхождения Руси. Историк обращал внимание на то, что термин «русь» встречается прежде всего и наиболее часто на юге, а не на севере. В иностранных источниках народ, носивший это «имя», зафиксирован задолго до призвания варягов (Иловайский, 1998: 13–14).
Д.И. Иловайский считал русов славянами, которые искони жили как автохтоны на берегах Черного моря. Они создали государство без участия иностранного элемента. Эти русы, смешанные с аланами, известны как роксаланы. Ученый под «островом руссов» арабских источников понимал Артанию, или, по-русски, Тмутаракань, расположенную на полуострове Тамань. К Черноморской Руси, помимо нее, Д.И. Иловайский относил восточную часть Крыма, побережье Азовского моря, а также племя тиверцев, которых он отождествлял с тавроскифами (сегодня эту гипотезу развивает и доказывает О.Н. Трубачев (Трубачев, 1997)).
В советское время историки-антинорманисты после выступления археологов, доказавших, что следы восточных славян в Причерноморском регионе появляются в массовом порядке сравнительно поздно, когда Киевское государство уже возникло и расширяло свои границы, в том числе и за счет освоения степей, вынуждены были переосмыслить идею изначального славянства причерноморских росов/русов, отстаиваемую антинорманистами XIX столетия. Если термин «русь» употреблялся в Причерноморье, а славянские поселения появляются в этом регионе сравнительно поздно, следовательно, росы – изначально неславянский этнос.
Современный исследователь Ю.Д. Акашев говорит об индийском, точнее, арийском, происхождении слова «русь», выводя его с севера Восточно-Европейской равнины, которую исследователь считает прародиной древних арьев, мигрировавших на Индостан. Ю.Д. Акашев отмечает, что «светлыми аланами» (рохс-аланами) вполне могла оказаться часть росов, увлечённая потоком арьев на юг и давшая начало Приазовско-Причерноморской Руси (Акашев, 2000: 145).
Наиболее полно и обстоятельно проблема Причерноморской Руси освещена в работах А.Г. Кузьмина, который полагал, что в ономастике Приазовья и Крыма на протяжении нескольких столетий имели место быть названия с корнем -рос-. Основным занятием местного населения принято считать мореходство, что позволяло им иметь значительное влияние в Северном Причерноморье, и это относилось не только к знавшим их византийцам, но и к днепровским славянам (Кузьмин, 2003). А.Г. Кузьмин согласен принять тезис Д.Л. Талиса, согласно которому «в I тысячелетии н.э. росы жили в Крыму, но в это время славянской Руси в Крыму не было» (Талис, 1974). Ученый допускал проникновение сюда (в ареал культуры, именуемой салтовской) также иных, в том числе славянских, этнических групп, не оставивших археологических следов. Сейчас имеется возможность говорить о преемственности местного индоарийского субстрата по его отражениям в местном славяно-русском (Кузьмин, 2003). Под этими индоарийскими реликтами историк понимал остатки от иранского, скифского и сарматского языков, существовавших на смежной, а подчас и на той же самой территории.
Таким образом, отечественная историография от идеи о происхождении слова «русь» от этнонима «роксолане» и об изначальной локализации руссов (славян) в Причерноморье пришла к выводу о сложном этническом составе населения причерноморского региона, о запутанных процессах сближения киевской и причерноморской руси (как народов). Идеи, высказанные М.В. Ломоносовым, стали настоящим достоянием русской исторической науки и открыли путь к изучению и осмыслению ранних страниц истории Русского государства. Его идеи в какой-то степени направляли развитие двух течений отечественной историографии – норманизма и антинорманизма. Споря друг с другом, историки медленно продвигались по тому пути, который наметил М.В. Ломоносов – бесспорно, гений русской истории.
Список литературы К вопросу о роли М.В. Ломоносова в становлении отечественной исторической науки: гениальные прозрения начальной истории Руси
- Акашев Ю.Д. Историко-этнические корни русского народа. М., 2000. 324 с.
- Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен: в 2 ч. М., 1876. Ч. 1. 344 с.
- Зеленин Г.К. О происхождении северновеликоруссов Великого Новгорода // Славяне и Русь: проблемы и идеи: концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении. М., 2000. C. 49 –95.
- Иловайский Д.И. Начало Руси: разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. М., 1996. 488 с.
- Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2003. 1015 с.
- Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. М., 2003. 367 с.
- Лебедев Г. Славянский царь Дир // Родина. 2002. № 11–12. С. 24–27.
- Ломоносов М.В. Избранные произведения: в 2 т. М., 1994. Т. 2. 495 с.
- Морошкин Ф.Л. Исследования о руссах и славянах. М., 1842. 114 с.
- Пархоменко В.А. У истоков русской государственности (VIII–XI вв.). Л., 1924. 214 с.
- Погодин М.П. Изследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории: в 7 т. М., 1846. Т. 2: Происхождение варягов-руси. О славянах. 426 с.
- Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2. М., 1988. 478 с.
- Талис Д.Л. Росы в Крыму // Советская археология. 1974. № 3. С. 87–99.
- Трубачев О.Н. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 1997. 435 с.
- Фомин В.В. Ломоносов: гений русской истории. М., 2006. 488 с.
- Evers G. Von Ursprunge der russische Staates. Riga, 1808. 132 р.