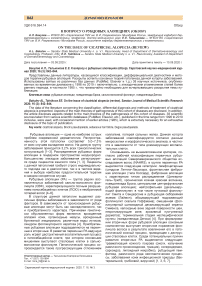К вопросу о рубцовых алопециях (обзор)
Автор: Бакулев А.Л., Тальникова Е.Е.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Дерматовенерология
Статья в выпуске: 3 т.16, 2020 года.
Бесплатный доступ
Представлены данные литературы, касающиеся классификации, дифференциальной диагностики и методов терапии рубцовых алопеции. Раскрыты аспекты основных теорий патогенеза данной когорты заболеваний. Использованы взятые из различных баз данных (PubMed, Elsevier и т.д.) 38 научных источников, опубликованных во временном диапазоне с 1996 по 2019 г. включительно, с эпизодическим упоминанием статей более раннего периода, в частности 1985 г., что чрезвычайно необходимо для исчерпывающего раскрытия темы публикации.
Псевдопелада брока, псевдопелада дегоса, рубцовые алопеции, сально-волосяной фолликул
Короткий адрес: https://sciup.org/149135604
IDR: 149135604 | УДК: 616.594.14
Текст научной статьи К вопросу о рубцовых алопециях (обзор)
1Рубцовые алопеции — одна из наиболее острых проблем современной дерматологии. Распространенность этой патологии составляет 5,0-7,3% от всех случаев выпадения волос. На данную группу заболеваний приходится 3,2% всех трихологических консультаций [1–3]. Распределение рубцовых форм алопеции в гендерном пространстве неоднородно: большинство эпизодов заболевания регистрируется среди пациентов женского пола [1, 3]. Пациенты с данной патологией требуют строго индивидуального подхода как в диагностике, так и в тактике ведения и выборе наиболее предпочтительной терапии в каждом конкретном случае.
Рубцовые алопеции (РА) — группа редких воспалительных заболеваний сально-волосяного фолликула (СВФ), характеризующихся полным разрушением пилосебацейных юнитов (ПСЮ) и необратимой потерей волос [4–6].
В структуре данной патологии выделяют различные формы заболевания в зависимости от ряда факторов. В зависимости от происхождения рубцовые алопеции могут быть как наследственного, так и приобретенного характера. Причинами генетически обусловленных форм являются: врожденная аплазия кожи, органоидные невусы, врожденный буллезный эпидермолиз, различные виды ихтиоза, синдром фолликулярного кератоза [4]. Приобретенные рубцовые алопеции подразделяются на первичные и вторичные. В развитии первичных РА ведущую роль играет деструктивный воспалительный процесс в пилосебацейном юните, при котором основными мишенями выступают стволовые клетки в сальноволосяном фолликуле. Патологический процесс сопровождается также прогрессирующим отложением
коллагена, потерей сальных желез. Данная когорта заболеваний классифицируется согласно данным микроскопии и морфологического анализа, в частности в зависимости от типа доминирующих воспалительных клеток.
Основываясь на вышеизложенном критерии, согласно рабочей классификации первичных рубцовых алопеций Североамериканского общества исследования волос (NAHRS), в группе первичных РА выделяются следующие категории: лимфоцитарные (синдром Литтла–Лассюэра, фронтальная фиброзная алопеция (типа Коссард), фиброзная алопеция с характерным типом распределения (Цинкерна-гель–Трюб), хроническая кожная красная волчанка, псевдопелада Брока, центральная центрифугальная рубцовая алопеция); нейтрофильная (декальвиру-ющий фолликулит, в том числе пучковый фолликулит Смита и Сандерсона и рубцующая себорейная экзема (Лаймон), абсцедирующий подрывающий фолликулит скальпа Гоффмана); смешанная (фолликулярный шиповидный декальвирующий кератоз Сименса, келоидные акне задней поверхности шеи, некротизирующие акне, эрозивный пустулезный дерматоз); терминальная стадия неспецифической группы (псевдопелада Дегоса) [4]. При формировании вторичных форм рубцовой алопеции основным компонентом выступает вторичное поражение фолликула волоса в результате вовлечения его в патологический кожный процесс, приводящее к деструкции стволовых клеток. Среди потенциальных причин развития вторичных РА выделяются следующие: травматизация кожного покрова (ожоги, излучение различного происхождения, тракция), склеродермия, саркоидоз, липоидный некробиоз, рубцующий пемфигоид, различного рода неопластические процессы, заболевания кожи инфекционной природы (бактериальной, грибковой, вирусной) [1, 3, 6, 7].
L.J. Goldberg (2009) описал новую форму РА — рубцовую маргинальную алопецию, которая характеризуется преимущественным поражением краевой зоны волосистой части головы в проекции затылочной и височной областей, «стертой» клинической картиной, гистологически выраженным фиброзом. Дифференциальная диагностика проводится с очаговой алопецией, тракционной формой облысения [8].
Вопрос патогенеза рубцовых алопеций на данный момент остается открытым. В настоящее время рассматривается ряд теорий механизма развития данной патологии: теория деструкции стволовых клеток волосяного фолликула, девиация иммунной функции пилосебацейного юнита, опосредованное цитотоксическими клетками разрушение сально-волосяного фолликула, повышение интенсивности апоптоза, нарушение липидного обмена, нарушение функционирования стволовых клеток, нейрогенная теория, влияние факторов внешней среды и генетических агентов.
Теория деструкции стволовых клеток волосяного фолликула основана на формировании перифол-ликулярного воспалительного инфильтрата вокруг волосяного сосочка, что, в отличие от образования аналогичного инфильтрата при очаговой алопеции вокруг луковицы волоса, обеспечивает необратимый характер выпадения волос. Кроме того, согласно когорте исследований [9–15] известно, что ряд клеточных популяций (MTS24, Lrig1, Nestin, Lgr5, Lgr6) обладают качествами стволовых клеток и наделены функцией восстановления волосяного фолликула, однако в результате развития воспалительного процесса с последующим формированием соединительной ткани при РА функциональная активность данных клеточных популяций нарушается.
Необходимо также учитывать наличие представительства иммунной системы в структуре пилосе-бацейного юнита, состоящего из клеток Лангерганса, перифолликулярных тучных клеток, Т-лимфоцитов, макрофагов и ряда антимикробных пептидов (человеческий β2-дефенсин, кателицидин и РНКаза7), способного в ассоциации с провоспалительными компонентами вызвать развитие массивного воспалительного процесса, разрушающего сально-волосяной фолликул. Однако в зоне локализации стволовых клеток СВФ у иммунокомпетентных людей сформирована область «иммунной привилегии», выражающаяся в образовании локальной иммуносупрессии для адекватного функционирования располагающихся в этой локации стволовых клеток. В связи с вышеизложенными данными некоторые исследователи [16, 17] предполагают развитие девиации иммунной защиты в качестве основы формирования рубцовых форм алопеции.
Гипотеза опосредованного цитотоксическими клетками разрушения сально-волосяного фолликула базируется на повышенной активности Т-лимфоцитов в зоне воспалительного инфильтрата, что провоцирует деятельность цитотоксических факторов, таких как INF-γ, TNF-α, IL-2, с последующим необратимым повреждением волосяного фолликула и формированием рубцовой ткани [5, 16, 18].
В развитии РА происходит индукция апоптоза в зоне СВФ, характеризующаяся активацией маркера пролиферации эпителия Ki-67 и гена-супрессора опухоли p53, направляющего поврежденные клетки в апоптоз [19, 20]. Кроме того, как известно, экспрессия конститутивного ингибитора апоптоза Bcl-2 снижается, что еще более предрасполагает к повреждению тканей, связанному с апоптозом [21].
P. Karnik с соавторами опубликовали результаты проведенных исследований, согласно которым воспа- лительный процесс при рубцовой алопеции является вторичным явлением, возникающим в результате первичного дефекта в пилосебациальной единице. Весомую роль в развитии РА играет дефект фермента стеароил-КоА-десатуразы 1, необходимый для синтеза жирных кислот сальных желез, мутация в котором приводит к их атрофии и нарушению секреции желез, что, в свою очередь, приводит к замедленному распаду внутренней корневой оболочки, ретроградному росту стержня волоса, с последующим возможным разрушением волосяного фолликула [22].
Одной из ведущих теорий является нарушение адекватного функционирования стволовых клеток ПСЮ. Данная теория основана на результатах экспериментального исследования на мышах, проведенного S. Tanimura с соавторами, в соответствии с которым зафиксирована потеря взаимодействия между ферментами Col17a1 и HFSCs, что приводит к угнетению способности самообновления стволовых клеток, с последующим необратимым выпадением волос. Этот эксперимент демонстрирует также изменения в микроокружении, в том числе снижение экспрессии внеклеточного матрикса, приводящее к формированию соединительной ткани [23].
Нейрогенная теория объясняет возможную роль психоэмоционального стресса в развитии РА. Основной составляющей этой гипотезы является субстанция Р — нейропептидная молекула, выполняющая функцию индуктора, зависимого от тучных клеток нейрогенного воспаления, и увеличивающаяся при психогенном стрессе. Нейрогенное воспаление приводит к образованию инфильтратов в комбинации с перифолликулярными воспалительными клетками, накоплению и дегрануляции тучных клеток, увеличению апоптоза кератиноцитов волосяного фолликула и уменьшению пролиферации кератиноцитов матрикса волоса, что сопровождается преждевременным попаданием волосяного фолликула в фазу катагена. Кроме того, известно, что субстанция Р выступает в качестве фактора роста фибробластов и способствует формированию фиброза и синтезу соединительной ткани [24–28].
В различных источниках активно обсуждается и роль различного рода экзогенных факторов в развитии клинических форм РА, таких как лекарственные препараты (препараты золота, вакцины, противосудорожные средства и т. д.), травмы, инфекционные агенты (Staphylococcus aureus и т. д.) [29–32].
В некоторых литературных источниках [5, 33–36] приводятся сообщения о семейных случаях заболевания первичными РА. В приведенном контексте генетические агенты играют двоякую роль: с одной стороны, выступают в качестве составляющей в едином звене патогенеза, а с другой — является самостоятельным этиологическим фактором.
Верификация диагноза рубцовой алопеции базируется на совокупности диагностических методов, в их числе: адекватный анализ жалоб и анамнеза пациента с выявлением возможных факторов риска и обозримых причин, клинический осмотр, общеклинические лабораторные тесты (общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи), исследование крови для определения уровня показателей половых гормонов (в частности, общего и свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона), дерматоскопия, трихоскопия, конфокальная микроскопия, гистологическое исследование биоптатов кожи, иммунофлюоресцентные методы исследования, анализ микрочипов [1, 5].
Дифференциальный диагноз (ДД) рубцовых алопеций весьма вариабелен и проводится в связи с рядом заболеваний, в частности с группой нерубцовых алопеций (очаговая, универсальная, андрогенетическая, тракционная формы алопеций, трихотилломания, телогеновое выпадение волос и т. д.). Кроме того, детальный дифференциальный диагноз проводится в связи с другими клиническими разновидностями рубцовых алопеций (как первичных, так и вторичных). В диагностике ДД занимает одну из ведущих позиций в тактике ведения пациента: ранняя верификация диагноза РА обеспечивает более благоприятный прогноз.
Вопрос тактики ведения пациента и выбора терапии остается дискутабельным ввиду отсутствия достоверных данных в отношении этиологии и патогенеза РА. Однако в настоящее время приоритетным направлением в лечении рубцовых алопеций является предотвращение дальнейшего прогрессирования патологического процесса. Метод терапии РА базируется на типе доминирующих клеток, участвующих в процессе воспаления: при лимфоцитарном типе первичной РА наиболее предпочтительным методом лечения выступают иммуносупрессивные средства; при нейтрофильном типе — противомикробные препараты/дапсон. В терапии РА используется комбинация системной терапии и наружного лечения: в качестве наружной терапии применяются топические формы ингибиторов кальци-неврина и глюкокортикостероидных препаратов (ГКС), внутриочаговое введение системных ГКС. Используются и хирургические методы лечения (трансплантация волос, иссечение пораженного участка, операция на лоскуте, сокращение рубцовой ткани путем ее расширения). Эффективность поддерживающей терапии до конца не выяснена. Курс лечения пациента может составлять 6 месяцев и более [1]. Вне зависимости от выбранного метода терапии основным критерием эффективности является оценка дерматоскопической картины патологического процесса. Кроме того, данная категория пациентов требует постоянного динамического наблюдения с периодическим проведением дерматоскопии и трихоскопии.
Таким образом, рубцовые алопеции являются актуальным и перспективным направлением в современной дерматологической науке. Когорта пациентов с данной нозологией относится к категории, требующей ранней верификации диагноза и выбора эффективного метода терапии. Кроме того, знание клинических форм, методов диагностики и терапии необходимо для выбора адекватной тактики ведения пациента с проблемой выпадения волос.
Список литературы К вопросу о рубцовых алопециях (обзор)
- Yingjun Su, Qing Yang, Wenjie Dou, et al. Cicatricial Alopecia. In: Muhammad Ahmad, ed. Alopecia. Intech Open, 2018; p. 89-111.
- Rongioletti F, Christana K. Cicatricial (scarring) alopecias: An overview of pathogenesis, classification, diagnosis, and treatment. Am J of Clin Dermatol 2012; 13 (4): 247-60.
- Whiting DA. Cicatricial alopecia: Clinico-pathological findings and treatment. Clin in Dermatol 2001; 19 (2): 211-25.
- Trjub RM. Complex patient of trichologist: Guidelines for the effective treatment of alopecia and related diseases. Moscow: GEOTAR-Media, 2019; 400 p. Russian (Трюб Р. М. Сложный пациент трихолога: руководство по эффективному лечению алопеций и сопутствующих заболеваний. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; 400 с.).
- Sunil D, Rishu S. What's new in cicatricial alopecia? Symposium-Hair Disorders 2013; 79 (5): 576-90.
- Tan E, Martinka M, Ball N, et al. Primary cicatricial alopecias: Clinicopathology of 112 cases. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 25-32.
- Sundberg JP, Hordinsky MK, Bergfeld W, et al. Cicatricial Alopecia Research Foundation Meeting, May 2016: Progress towards the diagnosis, treatment and cure of primary cicatricial alopecias. Exp Dermatol 2018; 27 (3): 302-10.
- Goldberg LJ. Cicatricial marginal alopecia: Is it all traction? Br J Dermatol 2009; 160: 62-8.
- Cotsarelis G, Millar SE. Towards a molecular understanding of hair loss and its treatment. Trends Mol Med 2001; 7: 293-301.
- McElwee KJ. Etiology of cicatricial alopecias: A basic science point of view. Dermatol Ther 2008; 21: 212-20.
- Nijhof JG, Braun KM, Giangreco A. The cell-surface marker MTS24 identifies a novel population of follicular keratino-cytes with characteristics of progenitor cells. Development 2006; 133: 3027-37.
- Jensen KB, Collins CA, Nascimento E. Lrig1 expression defines a distinct multipotent stem cell population in mammalian epidermis. Cell Stem Cell 2009; 4: 427-39.
- Amoh Y, Li L, Katsuoka K, et al. Multipotent nestin-positive, keratin-negative hair-follicle bulge stem cells can form neurons. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102: 5530-4.
- Jaks V, Barker N, Kasper M, et al. Lgr5 marks cycling, yet long-lived, hair follicle stem cells. Nat Genet 2008; 40: 1291-9.
- Snippert HJ, Haegebarth A, et al. Lgr6 marks stem cells in the hair follicle that generate all cell lineages of the skin. Science 2010; 327: 1385-9.
- Harries MJ, Paus R. The pathogenesis of primary cicatricial alopecias. Am J Pathol 2010; 177: 2152-62.
- Harries MJ, Meyer KC, Chaudhry IH, et al. Does collapse of immune privilege in the hair-follicle bulge play a role in the pathogenesis of primary cicatricial alopecia? Clin Exp Dermatol 2010; 35: 637-44.
- Ohyama M. Primary cicatricial alopecia: Recent advances in understanding and management. J Dermatol 2012; 39: 18-26.
- Baima B, Sticherling M. Apoptosis in different cutaneous manifestations of lupus erythematosus. Br J Dermatol 2001; 144: 958-66.
- Pablos JL, Santiago B, Galindo M, et al. Keratinocyte apoptosis and p53 expression in cutaneous lupus and dermato-myositis. J Pathol 1999; 188: 63-8.
- Nakajima M, Nakajima A, Kayagaki N, et al. Expression of Fas ligand and its receptor in cutaneous lupus: implication in tissue injury. Clin Immunol Immunopathol 1997; 83: 223-9.
- Karnik P, Tekeste Z, McCormick TS, et al. Hair follicle stem cell-specific PPARy deletion causes scarring alopecia. J Invest Dermatol 2009; 129: 1243-57.
- Tanimura S, Tadokoro Y, Inomata K, et al. Hair follicle stem cells provide a functional niche for melanocyte stem cells. Cell Stem Cell 2011; 8: 177-87.
- Peters EM, Arck PC, Paus R. Hair growth inhibition by psychoemotional stress: A mouse model for neural mechanisms in hair growth control. Exp Dermatol 2006; 15: 1-13.
- Peters EM, Botchkarev VA, Botchkareva NV, et al. Hair-cycle-associated remodeling of the peptidergic innervation of murine skin, and hair growth modulation by neuropeptides. J Invest Dermatol 2001; 116: 236-45.
- Arck PC, Handjiski B, Hagen E, et al. Indications for a 'brain-hair follicle axis (BHA) ': Inhibition of keratinocyte proliferation and up-regulation of keratinocyte apoptosis in telogen hair follicles by stress and substance P. FASEB J 2001; 15: 2536-8.
- Peters EM, Liotiri S, Bodo E, et al. Probing the effects of stress mediators on the human hair follicle: Substance P holds central position. Am J Pathol 2007; 171: 1872-86.
- Nilsson J, von Euler AM, Dalsgaard CJ. Stimulation of connective tissue cell growth by substance P and substance K. Nature 1985; 315: 61-3.
- Bardazzi F, Landi C, Orlandi C, et al. Graham Little-Pic-cardi-Lasseur syndrome following HBV vaccination. Acta Dermatol Venereol 1999; 79: 93.
- Grunwald MH, Ben-Dor D, Livni E, et al. Acne keloida-lis-like lesions on the scalp associated with antiepileptic drugs. Int J Dermatol 1990; 29: 559-61.
- Carnero L, Silvestre JF, Guijarro J, et al. Nuchal acne keloi-dalis associated with cyclosporin. Br J Dermatol 2001; 144: 429-30.
- Brudy L, Janier M, Reboul D, et al. Erosive lichen of scalp. Acta Dermatol Venereol 1997; 124: 703-6.
- Sahl WJ. Pseudopelade: An inherited alopecia. Int J Dermatol 1996; 35: 715-9.
- Douwes KE, Landthaler M, Szeimies RM. Simultaneous occurrence of folliculitis decalvans capillitii in identical twins. Br J Dermatol 2000; 143: 195-7.
- Viglizzo G, Verrini A, Rongioletti F. Familial Las-sueur-Graham-Little-Piccardi syndrome. Dermatology 2004; 208: 142-4.
- Aten E, Brasz LC, Bornholdt D, et al. Keratosis follicularis spinulosa decalvans is caused by mutations in MBTPS2. Hum Mutat 2010; 31: 1125-33.