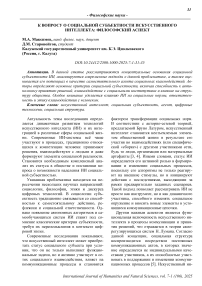К вопросу о социальной субъектности искусственного интеллекта: философский аспект
Автор: Максимов М.А., Старовойтов Д.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются концептуальные основания социальной субъектности ИИ, анализируются современные подходы к данной проблематике, а также оценивается его потенциал в качестве самостоятельного агента социальных взаимодействий. Авторы определяют основные критерии социальной субъектности, включая способность к автономному принятию решений, взаимодействие с социальными институтами и влияние на структуру общества. Особое внимание уделяется влиянию ИИ на социальные нормы, ответственность и этику взаимодействия с человеком.
Искусственный интеллект, социальная субъектность, агент, цифровые технологии, социальная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/170210768
IDR: 170210768 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-31-35
Текст научной статьи К вопросу о социальной субъектности искусственного интеллекта: философский аспект
Актуальность темы исследования определяется динамичным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их интеграцией в различные сферы социальной жизни. Современные ИИ-системы всё чаще участвуют в процессах, традиционно относящихся к компетенции человека: принимают решения, взаимодействуют с людьми и даже формируют элементы социальной реальности. Становится необходимым комплексный анализ их статуса в обществе и постановки вопроса о возможности наделения ИИ социальной субъектностью.
Указанная проблематика находится на пересечении нескольких научных направлений: социологии, философии, этики и дискурса цифровых технологий. В социологии субъектность традиционно связывается со способностью к самостоятельному действию, рефлексии и социальной ответственности. Однако появление автономных алгоритмов и самообучающихся систем ИИ ставит под сомнение классические критерии субъектности, требуя их переосмысления в контексте цифровой эпохи.
Современные исследования показывают, что искусственный интеллект может приобретать статус социального субъекта при условии, что он не только выполняет функциональные задачи, но и активно участвует в сетях социального взаимодействия, влияет на коммуникационные процессы и становится фактором трансформации социальных норм. В соответствии с акторно-сетевой теорией, предлагаемой Бруно Латуром, искусственный интеллект становится неотъемлемым элементом общественной жизни в результате его участия во взаимодействиях (или специфической «сборке») с другими участниками сети, будь то люди, организации или материальные артефакты [3, 4]. Иными словами, статус ИИ определяется его активной ролью в формировании и изменении социальных процессов, поскольку его алгоритмы не только реагируют на внешние стимулы, но и инициируют действия с последствиями, выходящими за рамки предварительно заданных сценариев. Такой подход позволяет рассматривать ИИ не просто как инструмент, но и как динамичного участника, способного изменять социальное окружение и вносить новые элементы в устоявшиеся коммуникационные цепочки.
Другим важным аспектом является функциональная включенность искусственного интеллекта в процессы коммуникации и принятия решений, что отражается в теории саморегулирующихся систем Н. Лумана. Согласно данной концепции, социальная структура воспроизводится посредством постоянных коммуникационных актов, в которых значение определяется не индивидуальными качествами участников, а их способностью участвовать в поддержании и изменении коммуникационных процессов [5]. Искусственный ин- теллект может выполнять функцию не только генератора информации, но и структурного элемента, способствующего установлению новых норм и стандартов межличностного общения. Его включенность в системы принятия решений делает его неотъемлемой частью цифрового социума, где автоматизированное взаимодействие приводят к появлению новых форм социальной регуляции.
Этическая и нормативная рефлексия является еще одним критерием, свидетельствующим о потенциальной социальной субъектности искусственного интеллекта. Действия ИИ как «гибридного субъекта» может потребовать пересмотра бинарной оппозиции «автор - инструмент», признавая факт со-агентности человека и алгоритма [4]. Взаимодействие с искусственным интеллектом порождает вопросы ответственности, справедливости и доверия, что стимулирует появление новых этических концепций и правовых норм. Если же мы хотим признать ИИ как полноценного участника социального диалога, то необходима его интеграция в процесс формирования общественного мнения, где его действия окажут возрастающее влияние на распределение социальных ролей и доступ к ресурсам.
Может ли ИИ трансформировать социальную структуру, принимая участие в перераспределении власти и ответственности? Предполагается, что алгоритмы, применяемые в автоматизированных системах управления, оказывают непосредственное влияние на принятие решений в экономической, юридической и политической сферах [6]. В этом контексте ИИ начинает играть важную роль в становлении новых форм социальной стратификации, что может способствовать усилению власти отдельных институтов, так и инициировать процессы децентрализации. Не исключено, что последующая функциональная интеграция ИИ в социальные процессы стимулирует радикальную трансформацию социальных отношений, что потребует переосмысления традиционных теорий распределения власти и социального контроля.
На наш взгляд, способность к социализации представляется ключевым элементом в определении социальной субъектности ИИ. Под социализацией понимается процесс включения актора в структуру общественных отношений, посредством которого он усваи- вает нормы, ценности и способы поведения, обладающие легитимностью в данном социокультурном контексте. Действительно, вместо механического повторения алгоритмических моделей поведения, развивающаяся система ИИ может демонстрировать способность к установлению и поддержанию устойчивых связей с различными участниками коммуникационной сети, интегрируясь в цифровые платформы, такие как социальные сети, он-лайн-сервисы и правовые алгоритмы. ИИ, основанный на алгоритмах машинного обучения и нейросетевых архитектурах, способен анализировать и обрабатывать большие массивы данных, порождаемых социальными практиками, что позволяет ему корректировать своё поведение в соответствии с новыми условиями функционирования [1]. Более того, интенсивное взаимодействие с социальной средой стимулирует развитие так называемых «метауровней» функционирования системы, таких как механизмы этического контроля, интерпретация нормативных ограничений и когнитивное сопоставление целей.
Немаловажным является и влияние ИИ на окружающую социальную среду, которое находит своё выражение в преобразовательной функции системы как актора социальных изменений (хотя бы на микросоциальном уровне). Взаимодействие с чат-ботами, использование генеративных алгоритмов в творческих процессах и изменение практик делегирования решений иллюстрируют, как технологические системы влияют на повседневное поведение и устанавливают новые правила коммуникационной этики. ИИ перестает быть формальным и безликим помощником в процессе генерирования вербального и визуального материалов, а претендует на роль открытого собеседника. В такой перспективе разграничение между субъектом и объектом в социальной реальности становится менее определённым.
Интеграция ИИ в социальные коммуникации поднимает ряд важных этических вопросов: интерпретация справедливости в алгоритмическом распределении ресурсов, формирование новых стандартов доверия для эффективного регулирования ИИ-опосредованного взаимодействия. Можно ли считать, что современный ИИ способен активно участвовать в преобразовании суще- ствующей социальной среды? Это будет зависеть от степени его участия в создании новых форм социальной стратификации и паттернов коммуникации, развитии инновационных форм социального взаимодействия и т.д.
Процесс социализации ИИ реализуется через механизм рекурсивного обучения, при котором система непрерывно адаптируется к изменениям внешнего социального контекста посредством анализа и обработки больших массивов данных, генерируемых социальными практиками. В социальном контексте обучение представляет собой процесс приобретения системой способности к установлению устойчивых связей с различными участниками коммуникационной сети, что выходит за рамки простого воспроизведения человеческого поведения.
Практическая реализация социализации ИИ наиболее ярко проявляется в современных технологических решениях. Показательным примером успешной социализации ИИ являются современные чат-боты, такие как ChatGPT или виртуальные ассистенты (Alexa, Siri), которые демонстрируют способность к динамической адаптации в ходе взаимодействия с пользователями. Эти системы не просто обрабатывают запросы, но и учатся предоставлять контекстуально релевантные и эмпатические ответы, что свидетельствует об их успешной интеграции в социальные коммуникационные процессы.
Другим примером эффективной социализации ИИ выступают рекомендательные системы, применяемые на платформах Netflix, Amazon и Spotify. Данные системы анализируют предпочтения пользователей и социальное поведение, создавая персонализированные рекомендации, которые не только отражают индивидуальные вкусы, но и активно формируют культурные тренды и паттерны потребления. Через механизмы обратной связи (лайки, комментарии, время просмотра) эти системы постоянно совершенствуют свои алгоритмы, демонстрируя способность к социальному обучению и адаптации.
Таким образом, социализация искусственного интеллекта представляет собой многомерный процесс, характеризующийся не только технологической адаптацией, но и активным участием в трансформации социальных норм и структур. Успешность этого про- цесса определяется способностью систем ИИ устанавливать устойчивые социальные связи, адаптироваться к изменяющимся контекстам и влиять на формирование новой парадигмы социальных отношений в цифровую эпоху.
Тем не менее, необходимо обозначить различия в характере социальной деятельности человека и современного искусственного интеллекта. Они, на наш взгляд, обусловлены фундаментальной разнородностью их онтологических оснований: биосоциальной природой человека, с одной стороны, и алгоритмической обусловленностью ИИ – с другой. Анализ приведенных ниже различий позволяет выявить уникальные особенности каждого из акторов, а также определить границы их взаимодействия в цифровом обществе.
-
1. Социальная деятельность человека базируется на сознании, интенциональности и рефлексии. Способность к моральным суждениям и эмоциональному отклику формирует его социальное «Я», позволяя не только реагировать на внешние стимулы, но и создавать смыслы и критически воспринимать собственные действия. Например, осознание несправедливости может привести к протестным действиям, выходящим за рамки рационального расчета, что подчеркивает роль эмоций и этической рефлексии в социальном поведении. «Действия» ИИ до сих пор представляют собой результат оптимизации математических функций, направленных на достижение предопределенных целей, таких как максимизация точности прогноза или вовлеченности пользователей. Социальная роль ИИ формируется через интеграцию в сетевые взаимодействия, где он функционирует как инструмент или посредник, чьи решения ограничены рамками программного кода и тренировочных данных [7]. Например, рекомендательные алгоритмы платформ Netflix или Spotify, анализируя паттерны поведения пользователей, формируют персонализированные предложения, однако их влияние на культурные тренды остается следствием статистических закономерностей, а не осознанного творчества.
-
2. Механизмы адаптации к социальной среде также различаются кардинальным образом. Адаптация человека к окружающему миру сопровождается интуитивным пониманием контекста. Врач, принимая клиническое ре-
- шение, руководствуется не только протоколами, но и принципами автономии пациента и справедливости, что иллюстрирует синтез рационального и морального в человеческой деятельности. Для ИИ адаптация сводится к технической калибровке параметров через машинное обучение. Алгоритмы анализируют массивы данных, выявляя статистические закономерности, и корректируют свои операции для повышения эффективности. Однако отсутствие понимания социального контекста и этической рефлексии ограничивает их роль. Даже системы с «этическими модулями», такие как алгоритмы распределения ресурсов, следуют формальным правилам, заложенным разработчиками, а не внутреннему моральному сознанию. Их «этика» выглядит как имитация, основанная на математических критериях, что порождает риски институционализации предубеждений, заложенных в базе данных.
-
3. Формирование социальных норм представляет еще одну область контраста. Человек участвует в создании норм через коллективные практики, культурную эволюцию и институциональные механизмы. Законы, традиции, мода – всё это продукты человеческого взаимодействия, подверженные критике и трансформации. В отличие от этого, ИИ влияет на нормы опосредованно, через алгоритмическую фильтрацию информации (модерация контента) или автоматизацию решений (кредитные рейтинги).
В качестве заключения следует отметить, что процесс переосмысления категории субъектности в контексте цифровой эпохи представляет собой необходимый этап теоретикометодологического развития социальных наук. Стремительное распространение технологий искусственного интеллекта, их интеграция в процессы социальной коммуникации, управления и воспроизводства социальной реальности требует выхода за рамки классических философских и социологических определений субъекта как исключительно человеческого агента, обладающего сознанием, волей и рефлексией.
Анализ возможностей и ограничений социальной субъектности ИИ указывает на формирование нового подхода, где субъектность понимается не как врождённое свойство, а как продукт вовлечённости в коммуникационные процессы и институциональные механизмы. Согласно этой логике, субъектность возникает как результат взаимодействия множества элементов системы — как человеческих, так и технологических. Таким образом, искусственный интеллект обретает социальную значимость не благодаря внутренней «сознательности», а через участие в динамических сетях, где его роль и влияние формируются в процессе постоянного обмена действиями и информацией.
Как отмечает В.И. Игнатьев, возможен постепенный переход к «сильной» версии постсоциальности, где «единство множества индивидов полностью обеспечивает техносистема, а не их собственные интеракции. Индивиды встроены в техносистему как элементы, связи между которыми перенесены в пространство виртуальных коммуникаций с цифровыми копиями реальных индивидов, либо же индивиды переходят к коммуникациям с искусственными цифровыми акторами – представителями сообщества, создаваемого нейросетью» [2]. Однако для обретения актуальной субъектности система ИИ должна иметь возможность осуществлять конкретные действия в реальной социокультурной среде, а не только в пространстве виртуальной коммуникации. Разумеется, вопрос о перспективе слияния реального социума и виртуальной сферы общения продолжает оставаться дискуссионным.
В любом случае, новая концепция субъектности в цифровую эпоху предполагает развитие многоуровневой агентности, где разные уровни общественных акторов – от индивидуальных до институциональных и технологических – взаимодействуют в рамках усложняющейся социальной системы. Искусственный интеллект в этих условиях может функционировать одновременно как инструмент, посредник и самостоятельный инициатор социальных изменений, что усложняет традиционные схемы анализа социальной структуры и требует новых исследовательских методологий, способных фиксировать динамику распределённых форм агентности.
Признание ИИ в качестве социального субъекта не означает нивелирования различий между человеческим и нечеловеческим, но требует более тонкой и дифференцированной аналитики социальных процессов, способной учитывать новые формы агентности, возни- гут интегрировать эти изменения в свои тео- кающие на пересечении человека и техники. Будущее социальных наук будет во многом зависеть от того, насколько успешно они смо- ретические конструкции, сохраняя критическую рефлексию и открытость к новым формам социальной реальности.