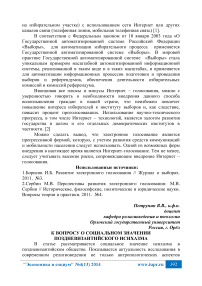К вопросу о социальном значении поздневизантийского исихазма
Автор: Петрунин В.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-4 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается социальное значение исихазма в поздневизантийском обществе. Показывается актуальность исследования в современном религиоведении не только антропологических аспектов мистицизма, но и его влияния на социально-политические процессы в обществе и государстве
Исихазм, мистический опыт, социальная этика
Короткий адрес: https://sciup.org/140110025
IDR: 140110025
Текст научной статьи К вопросу о социальном значении поздневизантийского исихазма
Одной из особенностей отечественного религиоведения является его исследовательская направленность на изучение социальных аспектов проявления религиозности. В советской период большое внимание уделялось рассмотрению вопроса об общественной роли религии. Подчеркивалось, что «социальную роль религии можно определить как совокупность функций, выполняемых данной религией в конкретных исторических условиях» [2, с. 60].
В современной науке о религии данная проблематика продолжает сохранять свою актуальность. Особенную актуальность изучению социальной роли религии придает постсекулярная концепция, которая становится все более популярной в социально-политических исследованиях, как на Западе, так и в России. Австралийский социолог Брайан Тернер указывает на то, что «большинство нынешних социологов и политологов пришли к выводу, что в дискуссиях о публичной сфере религию следует принимать всерьез … произошли различные трансформации социальной и политической жизни, которые поставили религию как институт в центр современного общества» [7, с. 30].
Для отечественного религиоведения особым предметом изучения продолжает оставаться социальная роль православного христианства в истории России. Данная ситуация заставляет обращаться не только к изучению Русской православной церкви, но и к истории вселенского православия. Особенно важен в этом смысле поздневизантийский период, когда православное христианство, более того, его мистическая составляющая – исихазм, приобрела огромное влияние на социальнополитическую и культурную жизнь Византийской империи.
Это обстоятельство, актуализирует методологические проблемы, с которыми сталкивается религиоведение при изучении религиозного опыта. Исихазм, являясь мистическим ядром православия, дает уникальный материал для исследования не только антропологических моментов мистического опыта, но и влияния мистики на социальный и политический контекст.
Поздневизантийский период, характеризуемый исихастским возрождением, отмечен не только актуализацией мистической практики в византийской церкви, но и выходом мистики в мир, когда подвижники тех лет, «спасавшиеся от мира», получали согласно их житиям, мистические повеления учить людей тому, чего они достигли сами, и поворачивали обратно к миру с целью его «спасти» [6, с. 10].
Одним из первых, кто придал исихазму широкую социальную направленность был Григорий Палама, призвавший к исихастской практике не только монахов, но и всех православных христиан. В словах Григория
Паламы, архиепископа Фессалоникийского, обращенных к своей пастве, содержится одна важная мысль, сделавшая исихазм социальным явлением – стяжание благодати объявляется доступным не только аскетам и отшельникам, но и живущим в миру [См.: 1, с. 94].
Широкую социальную направленность исихастской проповеди поддерживают ближайшие ученики и последователи Григория Паламы. Константинопольский патриарх Филофей Коккин призывает к проповедованию возможности богообщения для всех [См.: 6, с. 23].
Богослов-мирянин Николай Кавасила писал о том, что «жизнь во Христе зарождается в здешней жизни, и начало приемлет здесь, а совершается в будущей жизни, когда мы достигнем оного дня». Более того, стяжанию благодати не мешают мирские дела: «и искусствами можно пользоваться без вреда, и к занятию какому-либо нет никакого препятствия, и полководец может начальствовать войсками, и земледелец возделывать землю, и правитель управлять делами» [4, с. 10, 87].
Широкая социальная направленность исихастской проповеди привела к определяющей роли православного христианства в жизни поздневизантийского общества. Пользуясь классификацией функций религии, предложенной И.Н. Яблоковым [5, с. 82-84], мы можем отметить, что в данный период православие выполняло целый ряд социальных функций.
Прежде всего, стоит отметить мировоззренческую функцию, которая обеспечила сохранность культурной идентичности византийцев в их противостоянии как с латинским Западом, так и с мусульманским Востоком. Коммуникативная функция проявилась в духовном сплочении византийцев перед угрозой унии с Ватиканом, а позднее стала основой взаимодействия православных христиан в условиях мусульманского завоевания. Регулятивная и интегрирующая функции проявились в конкретном поведении византийцев, которые ориентировались при решении важных социально-политических вопросов на мнение Церкви, а не государства, заключившему целый ряд уний с Ватиканом (Лионская уния 1274 г., Флорентийская уния 1439 г., возобновление Флорентийской унии в 1452 г.). Культуротранслирующая функция способствовала появлению такого феномена как Исихастское Возрождение, что свидетельствовало не только об определяющем влиянии исихастских идей на культурное развитие поздней Византии, но и на то, что «Исихастское Возрождение продвигалось к созданию модели христианской культуры» [8, с. 188]. Легитимирующе-разлегитимирующая функция наглядное проявление обрела в неподчинении Церкви и православного населения государству в вопросе унии с Римом. Большинство византийцев предпочли «повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29).
Результатом исихастского влияния на социально-политические процессы в поздневизантийском обществе стала определяющая роль Церкви как социального института.
Кроме того, исихастское видение человека, нацеленное на его индивидуальное обожение, в конечном итоге, стало основой для формирования православной социальной этики. Огромную роль в этом сыграл Николай Кавасила, который дал новый импульс широкой социальной направленности проповеди исихазма.
Современный православный богослов, рассматривая социальные аспекты богословия Николая Кавасилы, отмечает, что «духовная жизнь не избегает мира, а преображает его. Это не перемена места, а изменение образа бытия», которое, в конечном итоге «воцерковляет мир» [3, с. 192-193].
Таким образом, мы видим, что мистика православного христианства в поздней Византии не ограничивалась антропологическими аспектами личного спасения, а стала преобразующей социальной силой. Данное обстоятельство делает целесообразным в современном религиоведении дальнейшее исследование и анализ механизмов, вызывающих тесную связь между конкретным мистическим опытом и историческим социальным контекстом. Кроме того, пример воздействия исихазма на социальнополитическую жизнь поздней Византии показывает особую актуальность для современного религиоведения темы влияния религии на социальнополитические процессы современности.
Список литературы К вопросу о социальном значении поздневизантийского исихазма
- Григорий Палама, святит. Беседы (омилии) в 3 частях. Ч. 2. -М.: Паломник, 1993.
- История и теория атеизма/Редкол.: М.П. Новиков (отв. ред.) и др. -М.: Мысль, 1987.
- Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии. -М.: Никея, 2011.
- Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе//Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. -М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2002. -С. 10-122.
- Основы религиоведения: Учебник/Под ред. И.Н. Яблокова. -М.: Высшая школа, 1998.
- Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе. -СПб.: Алетейя, 2000.
- Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. -№ 2. -2012. -С.21-51.
- Хоружий С.С. Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция Православия//Хоружий С.С. О старом и новом. -СПб.: Алетейя, 2000. -С. 182-206.