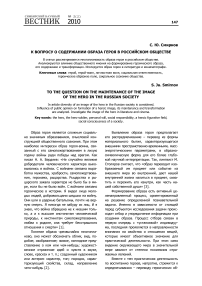К вопросу о содержании образа героя в российском обществе
Автор: Смирнов Сергей Юрьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается многоплановость образа героя в российском обществе. Анализируются влияние общественного мнения на формирование героического образа, его содержание и трансформация. Исследуется образ героя в литературе и кинематографе.
Герой, герой-воин, личностная воля, социальная ответственность, героическое образное поле, сакральное сознание общества
Короткий адрес: https://sciup.org/14113522
IDR: 14113522
Текст научной статьи К вопросу о содержании образа героя в российском обществе
Образ героя является сложным социально значимым образованием, смысловой конструкцией общественного сознания. При этом наиболее интересен образ героя-воина, связанный с его самопожертвованием в лихую годину войны ради победы над врагом. Как писал Н. А. Бердяев: «Не случайно великие добродетели человеческого характера выковывались в войнах. С войнами связана выработка мужества, храбрости, самопожертвования, героизма, рыцарства. Рыцарства и рыцарского закала характера не было бы в мире, если бы не было войн. С войнами связано героическое в истории. Я видел лица молодых людей, добровольцами шедших на войну. Они шли в ударные батальоны, почти на верную смерть. Я никогда не забуду их лиц. И я знаю, что война обращена не к низшим только, а и к высшим инстинктам человеческой природы, к инстинктам самопожертвования, любви к родине, она требует бесстрашного отношения к смерти» [1].
Понятие образа чрезвычайно многопланово, оно может обозначать облик, вид, подобие, изображение; живое, наглядное представление о ком или чем-нибудь; художественное отражение идей и чувств в звуке, слове, красках и т. п.; созданный художником или актером характер, тип; порядок, характеризующий свойства, склад, направление чего-нибудь [2].
Выявление образа героя предполагает его распредмечивание – перевод из формы материального бытия, характеризующегося внешними пространственно-временными, масс-энергетическими параметрами, в образносимволическую форму для его более глубокой научной интерпретации. Так, лингвист М. Столяров считает, что «образ переводит изображаемый им предмет или событие из внешнего мира во внутренний, дает нашей внутренней жизни излиться в предмет, охватить и пережить его изнутри, как часть нашей собственной души» [3].
Формирование образа есть активный целенаправленный процесс, ориентированный на решение определенной познавательной задачи. Именно в зависимости от стоящей перед субъектом исследования задачи происходит отбор и упорядочение информации при создании образа. Процесс отбора связан в первую очередь с «установкой» индивидуума, последняя проявляется в направленности внимания на свойства и отношения вещей, которые имеют объективное значение для практической деятельности. При этом само видение окружающего мира в значительной мере зависит от степени понимания отражаемых явлений.
Вместе с тем практическая деятельность по воспитанию героев, напротив, стремится к опредмечиванию – переводу героических об- разов, идей в предметный план, материализации в практической деятельности.
В отношении героического как характеристики убеждения, отношения и поведения имеется большое количество различных мнений.
-
А. Радищев писал, что героическая личность – это человек, который может думать, что с жизнью все кончается, или предполагать бессмертие души, но в любом случае он должен преодолеть страх смерти и быть готовым принести себя в жертву своим убеждениям, отдать жизнь за свободу человека [4].
Для П. А. Сорокина героизм означал готовность жертвовать своими жизнями, судьбами, ресурсами и благополучием во имя спасения свободы, достоинства и других великих национальных ценностей [5].
Й. Хейзинга утверждал, что «героизм означает повышенное осознание личностью своего призвания – не щадя сил, вплоть до самопожертвования, участвовать в осуществлении общего дела» [6].
П. Боранецкий считал, что героизм – титаническое миросозерцание, которое должно осуществить «демиургическую мобилизацию творческих возможностей человека», «гармонизацию жизни» и «гармоническое объединение людей» для преображения и спасения мира, преодоления мирового зла, в особенности зла смерти [7].
Н. И. Киященко полагал, что героизм – это борьба не за личные, а за общественные интересы... Только тот общественный долг, в котором воплощаются передовые идеалы общества и высшие цели борьбы за прогрессивное развитие его, за счастье и свободу человека, становится основой подлинного героизма. Высокое сознание такого общественного долга и стремление к выполнению его вдохновляет человека на героические подвиги, на самопожертвование и самоотречение [8].
Таким образом, героическое фиксирует способность человека к подвигу, готовность к пожертвованию своими интересами во имя общественных, стремление к необычайному сверхусилию, преодоление страха смерти, совершение нечто сверхъестественного, что не под силу обычному человеку, что в то же время является социальным примером и моделью поведения для других людей.
Содержанием героического образа, по мнению Ш. Султанова, является целостность личностной воли, социальной ответственности и особого (сакрального) состояния сознания общества. При этом личностная воля проявляется через особую зрелость личностного самосознания, личностного мышления. Ромен Роллан выдвинул мысль о том, что «зрелость мыслящего человека проявляется в степени его готовности пожертвовать своей жизнью за свои убеждения и идеалы». Эти слова еще более конкретизировал Г. Д'Аннунцио: «Если человек не готов пожертвовать своей жизнью за свои идеалы, то либо его идеалы ничего не стоят, либо сам человек ничего не стоит» [9].
Социальная ответственность – предельное драматическое напряжение одной или нескольких базовых социальных ценностей, связанное с глубочайшим кризисом данного общества или вызовом для этого социума, трагическим обострением проблемы выживания (внешняя агрессия, особый внутренний кризис, гражданская война, необычайная по масштабам природная катастрофа и т. д.). Такая ответственность естественным образом возможна тогда, когда основные социальные ценности для абсолютного большинства структурированы, внутренне взаимосвязаны, представляют собой систему как результат либо сохранения традиции, либо наличия хорошо разработанной и воспроизводимой идеологии.
Сакральное сознание общества – особая развитость религиозного и идеологического сознания общества, его способность интегрировать личностное и социальное, проявление сакральной силы в избранной личности [10].
Другими словами, героический образ – это совокупный духовный продукт личности, группы и общества, тесно связанный с системой социальных ценностей, во имя которых человек рискует своей жизнью и общественным сознанием, которое создает, оценивает, транслирует и сохраняет героическое проявление конкретных убеждений личности.
Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных образов в социальном пространстве может создавать героическое образное поле. Под образным полем И. А. Оси-новская понимает не смысловое, не концептуальное, а специфическое пространство, обусловленное не логикой, а чувствами людей, воспринимающих данные образы. В образах могут соединяться логически противо- положные или просто никак не связанные явления, которые вступают в «диалог» между собой, воспроизводя все новые образы [11].
Образное поле пытается захватить объект, превращая его в образ, выстраивая бесконечный зеркальный коридор связанных образов. Образное поле, возникающее при исследовании того или иного явления, с одной стороны, позволяет увидеть феномен сам по себе, вне его авторского или исторического осмысления. С другой стороны, феномен предстает как лишенный границ, как осколок других феноменов, явленных в образах. Все авторы, обращающиеся к некому феномену, пишут некий единый текст. Но, несмотря на такое абстрагирование от исторического и личностного пласта восприятия явления, оно все же - не трансцендентная идея, не бестелесный продукт метафизических спекуляций, а напротив, отраженный в тексте осязаемый отпечаток сознания (или воображения).
Представляется, что конкретные трансформации образа героя следует рассмотреть через их проявление в литературе (поэтический образ) и в кинематографе (визуальный образ) как наиболее важных носителях образного поля.
Образ героя получил наибольшее распространение в литературе. Философ А. Уайтхед полагал, что «конкретное мировоззрение человека именно в литературе получает свое выражение. Соответственно, если мы рассчитываем проникнуть во внутренний мир мышления некоторого поколения, нам следует обратиться к литературе, в особенности к ее конкретным формам» [12].
«Исторический роман, - отмечал В. Ян в одном из своих выступлений военных лет, -помимо того, что должен быть исторически точен и увлекательно написан, прежде всего должен быть учителем героики, правды. Счастлив писатель, которому удалось оживить и осветить целую эпоху. Что такое исторический роман? Это книга, которую читают три дня и помнят всю жизнь. В этом ценность настоящего исторического романа» [13].
В настоящее время образ героя в литературе повергается серьезным деформациям. Одно из таких изменений связано с тем, что в современных произведениях часто фигурирует не образ героя, а антигерой, т. е. человек, который по своим убеждениям и поступкам является носителем отрицательных качеств.
Этот процесс в русской литературе начался еще в XIX веке в произведениях Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова. Так, по словам Гоголя, «добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» [14].
М. Ю. Лермонтов в своей повести «Герой нашего времени» утверждал, что выводит «портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?.. Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить - это уж бог знает!» [15].
Указанная ситуация показывает обострение противостояния героя и антигероя, характерное и для сегодняшнего дня.
Рассмотрим некоторые черты реализации образа героя в кинематографе. В фильме
-
В. Петерсена «Троя» показаны две антагонистические мировоззренческие позиции воинов. Бюджет фильма превысил 170 млн дол., но при этом в американском прокате фильм в целом прошёл неудачно. Представляется, что это можно объяснить большим вниманием режиссера к показу духовных смыслов этого эпического полотна и сравнительно малым вниманием к созданию карнавального шоу.
Несмотря на то, что этот фильм все же исторический блокбастер и в нем отсутствуют античные боги и некоторые герои произведения Гомера «Илиада», авторы фильма сохраняют основные сюжетные линии, подчиняя их основной идее фильма – раскрыть природу героизма и истинную цену славы. Что делает из человека героя своего времени, что им движет и как добиться того, чтобы его деяния остались в памяти потомков? Этими вопросами открывается и заканчивается «Троя».
Противоборство Ахиллеса и Гектора – самых значительных героев «Илиады» составляет суть фильма. Ахиллес – полубог, рожденный величайшим из воинов. Он строптив и не приемлет над собой никаких авторитетов, в бою он ищет только личной славы. Он считает, что если родился воином – значит, в этом твоя суть, и смысл жизни – снискать славу на великой войне, которая прогремит в веках, именно так он отвечает на вопрос, зачем он прибыл на войну, зная, что ему суждено здесь погибнуть. Для Ахиллеса, и в этом он скорее наш современник, представитель западной цивилизации, незачем убивать врага, если этого никто не увидит; желательно делать это на глазах у тысяч зрителей.
Гектор, напротив, обычный земной человек, в бою он выглядит изначально более слабым и усталым, чем искусный и хищный Ахиллес. Гектор – прославленный воин, но слава его не в личных победах, а в даре полководца, не только и не столько в индивидуальном мастерстве, но в тактическом мышлении, не в безрассудстве, а в личном мужестве. Ему нужна не война, а мир, потому что он, прежде всего, слуга своего народа и сын своего отца.
В интерпретации В. Петерсена конфликт двух античных героев выходит далеко за рамки обычных человеческих противоречий и чувств. В лице Ахиллеса и Гектора под сте- нами Трои схлестнулись разные парадигмы, системы ценностей, мировоззрения, их поединок – это своего рода метафора извечной борьбы между агрессивным, эгоцентричным Западом, где во главу угла ставится принцип «быстрее, выше, сильнее» (герой-честолюбец Ахиллес), и замкнутым на себе Востоком с его идеалами царя-отца и семьи-государства (благородный герой-патриот Гектор). И все же Ахиллес, полюбивший и принявший любовь дочери Приама, побежденного царя, уже умирая, понимает, что ценность жизни не в том, чтобы остаться в истории великим воином, а в самой жизни.
По мнению конфликтолога В. А. Лефевра [16], такого рода конфликт представляет собой столкновение двух совершенно различных этических ценностных систем – ЭС-1 (Запада), где компромисс оценивается положительно, и ЭС-2 (Востока), где цель оправдывает средства. Каждая система состоит из нормативных типов – жертвенных индивидов – «святых», «героев» и нежертвенных индивидов – «обывателей» и «лицемеров», причем в каждой системе индивидам присущи разные качества. Особенность войны в Ираке и Афганистане состоит в том, что в ней противостоят друг другу одинаковые по агрессивности, но разные по содержанию типы – нежертвенные индивиды ЭС-1 против жертвенных ЭС-2.
Каждая система порождает своих собственных героев, столь же великих, сколь и не похожих друг на друга. Для Западного мира таким героем выступает человек-супермен, лицо, наделенное какими-то сверхчеловеческими способностями, как мистическими (Человек-паук, Хеллбой – парень из пекла, Халк-разрушитель), так и вполне реальными, но максимально усиленными (Джеймс Бонд).
В последнее время все чаще героем Восточного мира назначается исламский террорист-смертник (М. Атта – один из летчиков, врезавшихся 11.09.2001 г. в здание ВТЦ, идеолог этого теракта У. Бен Ладен), способный сокрушить устоявшуюся западную систему ценностей. Однако следует отметить, что подобный образ в основном сам сконструирован средствами массовой информации развитых стран.
Можно предположить, что большую роль в формировании героического образа играет общественное мнение, под которым понима- ется способ формирования массового сознания и отношение (скрытое или явное) различных групп людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их интересы и потребности. Общественное мнение достаточно противоречиво. С одной стороны, оно выступает как духовное отношение, а с другой – как духовно-практическое отношение, как проявление социальной воли. Общественное мнение одобряет, порицает, обязывает.
По словам Г. Лебона, толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым, и хотя рассудок указывает на те несообразности, которые заключаются в этих образах, толпа их не видит и примешивает к действительному событию то, что создано ее искажающим воображением. «Не обязательно толпа должна быть многочисленна, чтобы способность видеть правильно то, что происходит перед нею, была бы в ней уничтожена, и чтобы место реальных фактов заступили галлюцинации, не имеющие с ними никакой связи» [17].
Именно поэтому героический образ, воспринимаемый общественным сознанием, которое в настоящее время все чаще выступает в форме массового сознания (примитивным, фрагментированным, легковерным), является достаточно изменчивым и подверженным влиянию средств массовой информации и коммуникации.
Человек массового общества, по X. Орте-ге-и-Гассету, не способен и не хочет оценить себя как с плохой, так и с хорошей стороны, он чувствует себя «таким, как все» и вовсе не переживает из-за этого. Ему нравится чувствовать себя «таким, как все» [18]. Он не требует от себя многого, не стремится к самосовершенствованию, предпочитает не усложнять жизнь и склонен плыть по течению. Делая акцент на материальной стороне жизни, он может добиваться успеха, благополучия и комфорта. В таком случае героический образ становится не просто не нужен, он является опасным для сытого и размеренного течения жизни человека толпы.
Для различных социальных групп потребительского социума идолами становятся наука и телепередача, автомобиль и новый фильм, искусство и загородный дом, кинозвезды и моющие средства, спортсмены и дома мод, последняя марка пылесоса и раскрученный роман, футбольная команда и новый мобильный телефон, идеологический лозунг и алюминиевая банка пива и т. д. и т. п.
Говорят, что в крупнейших западных универмагах можно насчитать до 40 миллионов видов товаров. В принципе, это сорок миллионов языческих идолов. Но доминирующим в этом огромном языческом пантеоне являются денежные знаки и человеческие тела [19].
Современное западное общество исходит из того, что любая потребительская вещь является идолом, способным к некоему квазичуду. То есть подспудно происходит «героизация» вещи-идола, но за счет неуклонной личностной десакрализации, десакрализации человека как духа. Поэтому реальный герой для такого социума не просто бесполезен, он опасен, предельно опасен.
М. Фишвик в своей книге «Иконы популярной культуры» утверждает, что наиболее адекватным термином, выражающим сущность произведений «массовой» поп-культуры, является термин «икона» (eicon). Именно икона, а не имидж (англ. image) или гештальт (нем. Gestalt), соответствующие русскому понятию «образ». Этот термин характеризует такой тип художественного отражения, который носит символический, принципиально нереалистический характер, является предметом веры, поклонения, а не средством отражения и познания мира.
Иконы обладают мифологической структурой, они действуют не на интеллектуальном, а на эмоциональном уровне. Поэтому «массовая культура», ориентирующаяся на инстинкты и подсознание, широко использует именно иконические изображения. Фишвик специально сравнивает иконы поп-культуры с религиозной иконой. В далеком прошлом в системе христианской культуры икона была средством изображения «священных предметов». Однако с ослаблением религии значение религиозной иконы падает. Современные люди живут без бога, но они не могут жить без икон. Только теперь место сакральных икон занимают иконы светские (секулярные). «Несмотря на все изменения, – пишет Фиш-вик, – иконы по-прежнему остаются. Старый процесс продолжается: история становится мифологией, мифология порождает ритуал, ритуал требует икон» [20].
Новая современная мифология основана на поклонении образам-иконам, к которым относятся герои «массовой культуры» вестернов, комиксов, телевизионных боевиков и кинематографических сериалов, идолы поп-музыки. Причем все они вызывают у зрителя не познавательный интерес, а ритуальное поклонение.
Представляется, что именно с этим аспектом, реализацией в России «общества потребления» с присущей ей поп-культурой и культом поклонения материальным благам, связаны значительные трансформации образа героя, происходящие с ним в последние годы.
-
1. Бердяев Н. А. О войне. Письмо одиннадцатое // Полн. собр. соч. Париж, 1990. Т. 4; Философия неравенства. Письма к недругам социальной философии. С. 520-522.
-
2. См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1990. С. 433.
-
3. Столяров М. Образ // Литературная энциклопедия: словарь литературных терминов: в 2 т. / под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина и др. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 520.
-
4. Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Полн. собр. соч.: в 3 т. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 90-93.
-
5. Сорокин П. А. Основные черты русской нации в XX столетии // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 471.
-
6. Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня: диагноз духовного недуга нашей эпохи // Homo ludens (Человек играющий). М., 2004. С. 251.
-
7. Боранецкий П. О достоинстве человека. Основания героической этики. Париж, 1950. С. 6.
-
8. Киященко Н. И. Героическое как категория эстетики // Эстетика. Категории. Искусство. М., 1965. С. 88-93.
-
9. Д'Аннунцио Г. Герой // Собр. соч.: в 6 т. М., 2010. Т. 4. С. 508-511.
-
10. Султанов Ш. Героическое, герой и время «оно» // Завтра. 2005. № 37. 14 сент.
-
11. Осиновская И. А. Образное поле как предмет философского исследования: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2002. С. 14-15.
-
12. Уайтхед А. Наука и современный мир // Избранные работы по философии. М., 1990. С. 133.
-
13. Янчевецкий М. Создание героических образов защитников Родины // Ян В. На крыльях мужества. Челябинск, 1989. С. 5-6.
-
14. Гоголь Н. В. Мертвые души // Собр. соч.: в 7 т. М., 1967. Т. 5. С. 105-106.
-
15. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 2006. С. 3-4.
-
16. Проверим алгеброй мировую дисгармонию. Беседа с В. А. Лефевром // Кентавр. 2003. № 31. С. 64-66.
-
17. См.: Лебон Г. Психология масс. Хрестоматия / под ред. Д. Я. Райгородского. Самара, 1998. С. 22.
-
18. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2007. С. 5-6.
-
19. Султанов Ш. Героическое, герой и время «оно» // Завтра. 2005. № 37. 14 сент.
-
20. Fishwick M. Icon of Popular Culture. Bowing Green Univ. Press, 1970. Р. 2.
Список литературы К вопросу о содержании образа героя в российском обществе
- Бердяев Н. А. О войне. Письмо одиннадцатое//Полн. собр. соч. Париж, 1990. Т. 4; Философия неравенства. Письма к недругам социальной философии. С. 520-522.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка/под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1990. С. 433.
- Столяров М. Образ//Литературная энциклопедия: словарь литературных терминов: в 2 т./под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина и др. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 520.
- Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии//Полн. собр. соч.: в 3 т. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 90-93.
- Сорокин П. А. Основные черты русской нации в XX столетии//О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 471.
- Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня: диагноз духовного недуга нашей эпохи//Homo ludens (Человек играющий). М., 2004. С. 251.
- Боранецкий П. О достоинстве человека. Основания героической этики. Париж, 1950. С. 6.
- Киященко Н. И. Героическое как категория эстетики//Эстетика. Категории. Искусство. М., 1965. С. 88-93.
- Д'Аннунцио Г. Герой//Собр. соч.: в 6 т. М., 2010. Т. 4. С. 508-511.
- Султанов Ш. Героическое, герой и время «оно»//Завтра. 2005. № 37. 14 сент.
- Осиновская И. А. Образное поле как предмет философского исследования: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2002. С. 14-15.
- Уайтхед А. Наука и современный мир//Избранные работы по философии. М., 1990. С. 133.
- Янчевецкий М. Создание героических образов защитников Родины//Ян В. На крыльях мужества. Челябинск, 1989. С. 5-6.
- Гоголь Н. В. Мертвые души//Собр. соч.: в 7 т. М., 1967. Т. 5. С. 105-106.
- Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 2006. С. 3-4.
- Проверим алгеброй мировую дисгармонию. Беседа с В. А. Лефевром//Кентавр. 2003. № 31. С. 64-66.
- Лебон Г. Психология масс. Хрестоматия/под ред. Д. Я. Райгородского. Самара, 1998. С. 22.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2007. С. 5-6.
- Султанов Ш. Героическое, герой и время «оно»//Завтра. 2005. № 37. 14 сент.
- Fishwick M. Icon of Popular Culture. Bowing Green Univ. Press, 1970. Р. 2.