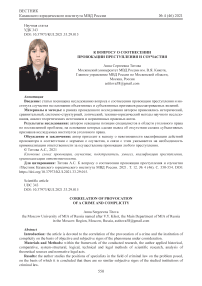К вопросу о соотнесении провокации преступления и соучастия
Автор: Титова Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология
Статья в выпуске: 4 (46) т.12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена исследованию вопроса о соотнесении провокации преступления и института соучастия на основании объективных и субъективных признаков рассматриваемых явлений. Материалы и методы: в рамках проведенного исследования автором применялись исторический, сравнительный, системно-структурный, логический, технико-юридический методы научного исследования, анализ теоретических источников и нормативных правовых актов. Результаты исследования: автором освещены позиции специалистов в области уголовного права по поставленной проблеме, на основании которых сделан вывод об отсутствии схожих субъективных признаков исследуемых институтов уголовного права. Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу о невозможности квалификации действий провокатора в соответствии с нормами о соучастии, в связи с этим указывается на необходимость криминализации ответственности за осуществление провокации любого преступления.
Провокация, соучастие, подстрекатель, умысел, квалификация преступления, криминализация ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/142231608
IDR: 142231608 | УДК: 343 | DOI: 10.37973/KUI.2021.33.29.015
Текст научной статьи К вопросу о соотнесении провокации преступления и соучастия
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплена ответственность за осуществление провокации взятки, коммерческого подкупа, а также подкупа в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Вместе с тем действующий уголовный закон не содержит понятия провокации, а также критерии, ее определяющие. В уголовно-правовой доктрине ведутся активные обсуждения о сущности и природе провокации преступления, однако к единому мнению по данному вопросу специалисты в области уголовного права до сих пор не пришли. В связи с этим полагаем необходимым соотнести институты провокации преступления и соучастия, что позволит понять, возможно ли рассматривать провокацию с точки зрения института соучастия, либо провокация преступления является самостоятельным институтом уголовного права, имеющим свои особенности и отличительные черты.
В советский период вопрос о квалификации действий провокатора преступления освещался Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда СССР. В советской правоприменительной практике провокационная деятельность рассматривалась как подстрекательство к совершению преступления. Отметим, что цель провокатора, выраженная в последующем изобличении спровоцированного лица, ключевого значения для квалификации действий провокатора не име-ла1. Такой подход советского правоприменителя к квалификации провокационной деятельности основывался на положениях дореволюционного уголовного права, отождествляющего провокацию и соучастие [1].
Обзор литературы
В доктрине уголовного права провокацию преступления как соучастие рассматривали многие ученые, среди которых В.С. Прохоров, В.Д. Иванов, М.И. Ковалев, Н.С. Таганцев, А.А. Мастерков, Н.А. Егорова, А.А. Пионтковский.
Так, В.Д. Иванов отмечает, что в рамках института соучастия необходимо рассматривать деятельность провокатора, который может быть подстрекателем и выступать в роли организатора преступления [2].
Заслуживает внимания позиция А.А. Пионтковского, полагавшего, что провокатор с точки зрения советского уголовного права хотя бы и изобличал преступника до окончания преступления, должен рассматриваться как подстрекатель к совершению преступления [3].
Егорова Н.А. рассматривает провокатора как подстрекателя и полагает возможным в случаях склонения провокатором должностного лица к получению взятки, а также способствования самому факту склонения и передачи должностному лицу с его согласия имущественных благ с целью последующего его изобличения квалифицировать в соответствии со статьями 33 и 290 УК РФ как подстрекательство к получению взятки [4].
Аналогичным образом рассматривает провокацию А.А. Мастерков. Однако, по его мнению, степень ответственности провокатора должна напрямую зависеть от его роли в совершении преступления. Таким образом, действия провокатора должны подлежать квалификации в соответствии с положениями статей 33 и 34 УК РФ [5].
Полагаем, что существование позиций, относящих провокационную деятельность к институту соучастия, объясняется схожестью действий провокатора, составляющих объективную сторону провокации, с действиями соучастников, в частности подстрекателя и организатора преступления [6]. Соучастие и провокация имеют общий признак – участие двух и более лиц. Кроме того, смысл провокации частично раскрывает Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», абзацем 5 части 8 статьи 5 которого установлен запрет лицам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий1.
На основании вышесказанного действия провокатора, активно способствующего совершению преступления спровоцированным лицом, на первый взгляд, могут быть оценены с точки зрения положений о соучастии. Вместе с тем данная оценка действий не совсем корректна, поскольку не учитывает особенности юридической природы провокации и соучастия.
Результаты исследования
В отличие от провокации, понятие соучастия закреплено в уголовном законе. Согласно статье 32 УК РФ соучастием признается умышленным совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления2. Так, в качестве обязательных признаков соучастия законодателем определены наличие умысла в действиях всех соучастников и их осведомленность о совместности усилий при совершении преступления.
Поднимая вопрос об отнесении провокационной деятельности к соучастию, необходимо учитывать, что субъективные признаки соучастия у провокатора отсутствуют. Иными словами, для признания лиц соучастниками преступления необходим единый умысел на совершение одного преступления и достижение единого преступного результата, чего в случае с провокацией преступления не усматривается.
В уголовно-правовой доктрине умысел определяется исходя из наличия волевого и интеллектуального критерия умысла. При рассмотрении вопроса о провокации в рамках института соучастия необходимо исходить из содержания именно этих двух критериев.
Так, Н.С. Радачинский, поднимая вопрос о разграничении действий провокатора и подстрекателя, отмечает, что при соучастии действия лиц обращены на достижение единого результата совершения преступления. Вместе с тем при провокации усилия каждого из ее участников направлены на достижение абсолютно разных преступных результатов [7]. Представляется, что в случае с провокацией налицо отсутствие двусторонней интеллектуальной связи между провокатором и спровоцированным лицом. Данный факт не позволяет нам рассматривать последних как соучастников преступления.
На отсутствие волевого критерия умысла в случае осуществления провокации справедливо указывает С.В. Кугушева Так, у провока- тора отсутствует желание либо сознательное допущение наступления общественно опасных последствий совершения преступления, поскольку желание провокатора напрямую связано с целью провокации – изобличением и причинением неблагоприятных последствий в отношении лица, поддавшегося провокации [8]. Полагаем, что деятельность провокатора обладает более высокой степенью общественной опасности, по сравнению с подстрекательской деятельностью. Это объясняется тем, что, помимо наступления неблагоприятных уголовно-правовых последствий самой провокации, жертвой провокации совершается самостоятельное преступление [9].
Об отсутствии обоих критериев умысла у участников провокации высказывался О.А. Мансуров. По его мнению, лицо, совершающее преступление под воздействием провокатора, последнего не рассматривает в таком качестве, а также ничего не подозревает о его намерениях. Таким образом, поскольку у участников провокации отсутствует признак совместности действий, выраженный в объективной стороне деяния, а также единством умысла, о них нельзя говорить, как о соучастниках [10].
Заслуживает внимания позиция А.А. Мастерко-ва, полагающего, что суть провокации заключается не в преобразовании объективной реальности, а в изменении субъективной составляющей – психического отношения лица провоцируемого к совершению преступления к определенной ситуации. Провокация опасна тем, что провокатор стремится сделать из провоцируемого лица преступника, преследуя в отношении последнего цель наступления неблагоприятных правовых последствий [11]. Таким образом, при провокации провоцируемое лицо и провокатор заранее не договариваются о своих действиях, их действия не охвачены единым умыслом, а стремления участников провокации обращены к достижению диаметрально противоположных результатов.
Возможность раскрытия правоохранительными органами преступления, совершенного в результате провокации, а также привлечения спровоцированного лица к уголовной ответственности – значимое отличие психического отношения провокатора от подстрекателя к совершающемуся деяния. В связи с этим справедливо высказывался А.А. Пионтковский, полагая, что действия провокатора направлены не на причинение вреда объекту преступления, соверша- емого провоцируемым лицом, а на изобличение последнего и привлечении к уголовной ответственности [3].
В УК РФ закреплены способы воздействия подстрекателя на склоняемое лицо. Часть 3 статьи 33 УК РФ содержит открытый перечень таких способов, среди которых законодателем определены уговор, подкуп и угроза. Действия подстрекателя характеризуются открытостью и направленностью возбудить у подстрекаемого лица желание совершить конкретное преступление. Напротив, при провокации действия провокатора имеют скрытый и тайный характер, чтобы у провоцируемого лица не возникло мысли о том, что он является жертвой провокации [12].
Обсуждение и заключения
Таким образом, проводя различия и сходства между институтами соучастия и провокации, полагаем, что субъективные признаки рассматриваемых институтов представляются основным фактором, не позволяющим свести деятельность провокатора к роли подстрекателя. При провокации согласованность в действиях провокатора и провоцируемого лица отсутствует, что не позволяет нам рассматривать последних в качестве соучастников.
Вместе с тем, несмотря на то, что провокатор преступления, хотя и не является подстрекателем, не перестает быть общественно опасным, его действия должны подлежать самостоятельной юридической оценке.
В связи с тем, что последствием провокации выступает не только сам факт совершения спровоцированным лицом преступления, но и возникновение для последнего неблагоприятных правовых последствий, связанных с привлечением к уголовной ответственности, то роль провокатора представляется нам более общественно опасной, нежели роль подстрекателя к преступлению.
Учитывая изложенное, а также узкую направленность статьи 304 УК РФ, предусматривающую ответственность за провокацию к совершению нескольких коррупционных преступлений, предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о возможности криминализации ответственности за осуществление провокации любого преступления.

Список литературы К вопросу о соотнесении провокации преступления и соучастия
- Дударенко В.В., Незнамова З.А. Исторический анализ нормативного регулирования провокации преступления: от прошлого к будущему // Российский юридический журнал. 2018. № 4. С. 67 - 72.
- Иванов В.Д. Провокация или правомерная деятельность? // Уголовное право. 2001. № 3. С. 16-18.
- Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного права: Общая часть. М., 1961. 666 с.
- Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Российская юстиция. 1997. № 8. С. 26-27.
- Забелов А.Ю. Провокация преступления как составная часть института соучастия // Современное право. 2017. № 4. С. 104 - 109.
- Крыканов В.Е. Законодательные проблемы определения провокации взятки // Администратор суда. 2017. № 3. С. 34 - 38.
- Шумихин В.Г. Квалификация провокации отдельных преступлений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 2. С. 142 - 147.
- Кугушева С.В. Провокация преступления: проблемы уголовно-правовой квалификации // Уголовное право, 2005. № 10. С. 25-26.
- Борков В.Н. Отграничение провокатора от подстрекателя, даже если это одно и то же лицо // Законность. 2021. № 3. С. 46 - 49.
- Мансуров О.А. Уголовно-правовые меры по борьбе с провокацией взятки либо коммерческого подкупа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. Акад. управления МВД России. М., 2001. 23 с.
- Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Владивосток, 2000. 18 с.
- Дударенко В.В. Соотношение провокации преступления и соучастия в преступлении // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 398. С. 153-157.