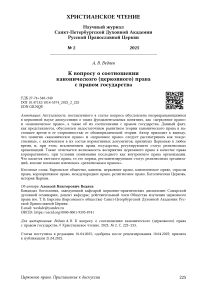К вопросу о соотношении канонического (церковного) права с правом государства
Автор: А.В. Ведяев
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Приглашение к дискуссии
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность поставленного в статье вопроса обусловлена непрекращающимися в церковной науке дискуссиями о таких фундаментальных понятиях, как «церковное право» и «каноническое право», а также об их соотношении с правом государства. Данный факт, как представляется, обусловлен недостаточным развитием теории канонического права в настоящее время и ее оторванностью от общеюридической теории. Автор приходит к выводу, что понятия «каноническое право» и «церковное право» следует рассматривать как тождественные, с включением в их состав нормативных документов, принятых Церковью в любое время, и, при этом, исключением права государства, регулирующего статус религиозных организаций. Также отмечается возможность восприятия церковного права в качестве права корпоративного, при условии понимания последнего как внутреннего права организации. Что касается светского права, то его нормы, регламентирующие статус религиозных организаций, вполне возможно именовать «религиозным правом».
Барсовское общество, каноны, церковное право, каноническое право, отрасли права, корпоративное право, международное право, религиозное право, Католическая Церковь, история Церкви
Короткий адрес: https://sciup.org/140309612
IDR: 140309612 | УДК: 27-74+348+340 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_225
Текст научной статьи К вопросу о соотношении канонического (церковного) права с правом государства
В настоящее время в науке церковного права нет единого подхода к таким вопросам, как объем церковного права, его соотношение с правом государства, возможность рассмотрения в качестве корпоративного права, различие понятий «каноническое право» и «церковное право» и др. Дискуссионной является и проблема выделения отраслей в церковном праве (см. об этом: [Ведяев, 2022]). Все эти вопросы часто и активно обсуждаются, в частности, на мероприятиях, проводимых Обществом изучения церковного права им. Т. В. Барсова (Барсовским обществом) Санкт-Петербургской духовной академии, а также в многочисленных публикациях в академических журналах (см., напр.: [Хохлов, 2023; Веремеев, 2023; Гайденко, 2023]).
Как известно, в науке существуют разные подходы к соотношению понятий «церковное право» и «каноническое право». Есть следующие взгляды на этот вопрос: каноническое право — это право эпохи времен Вселенских Соборов, церковное право — еще и более позднего происхождения, как церковное, так и государственное (Н. С. Суворов); понятия тождественны (А. С. Павлов); каноническое право — изданное только Церковью, церковное — и ею, и государством, но по церковным вопросам (католический подход) (см. подр.: [Цыпин, 2009, 84–85]). На наш взгляд, более оправданна концепция, похожая на две последних, но при исключении из предмета церковного права законодательства государства по религиозным вопросам. Иными словами, церковное право следует признавать синонимом права канонического (что практически соответствует взглядам А. С. Павлова), однако с исключением из него права государства (таким образом, по объему оно соответствует каноническому праву в католическом подходе). То есть церковное право — это то же самое, что каноническое право, и оно включает документы, принятые Церковью в любой исторический период, в т. ч. сами каноны.
Как отмечает прот. Владислав Цыпин, после издания канонического свода Православной Церкви (Синтагма Номоканона патр. Фотия, в русском переводе составляющая Книгу правил) более поздние церковные законы не получали статус канонов (см.: [Цыпин, 2009, 192]). Несмотря на такую сложившуюся в Православной Церкви традицию, все же следует понимать, что даже современные церковные документы издаются во исполнение канонов и на их основе, поэтому условное именование их «канонами» тоже может практиковаться. Католическая Церковь к этому вопросу относится намного проще: статьи в ее Кодексе озаглавлены именно «канонами».
Включение в состав церковного права нормативных актов государства отчасти возможно в православных странах, возглавляемых православным лицом, где Церковь тесно слита с властью, а церковное право — со светским, в связи с чем законодательство государства вряд ли может серьезно противоречить каноническим установлениям. Такой подход был в Российской империи, что, в свою очередь, было унаследовано от Византии. Именно в таких условиях жили дореволюционные канонисты (в частности, А. С. Павлов и Н. С. Суворов), иное они вряд ли могли представить. Поэтому и их взгляды вполне можно относить лишь к тогдашним реалиям. При этом и в них все же следует рассматривать церковное право как самобытную систему, лишь признаваемую государством.
В то же время в современных условиях, когда в большинстве стран применяется принцип отделения религиозных организаций от государства, возникающие при таком подходе проблемы очевидны. В таковых странах Церковь (как и иные конфессии / религии) соблюдает светское право в силу своего нахождения в правовом поле государства (равно как и любые другие общественные организации), однако это право может существенно противоречить каноническим установлениям. Кроме того, право этих государств регламентирует лишь внешнюю форму существования религиозных организаций, не затрагивая внутренние установления: иное было бы нарушением принципа отделения религиозных организаций от государства. В то же время в странах с государственной Церковью, таких как Российская или Византийская империи, императорские акты свободно затрагивали и внутренние церковные вопросы. Некоторые акты продолжали по инерции применяться Церковью и после исчезновения этих государств в силу того, что иных норм, регламентирующих данные вопросы, просто не было, и потому они сохранялись в качестве сложившейся традиции.
Соответственно, в современных условиях логичнее говорить о религиозном праве государства, которое нецелесообразно включать в состав церковного права, но которое Церковь соблюдает в силу нахождения в правовом поле государства, но лишь до тех пор, пока оно не начинает кардинально противоречить церковным установлениям. Не стоит забывать и о том, что в большинстве современных стран в силу отделения религиозных организаций от государства право не использует термин «церковь», но обобщенное понятие «религиозные организации / объединения» или подобное ему, что также делает не совсем корректным включение его в состав церковного права. Церковь же в таком случае рассматривается лишь как один из видов религиозных организаций / объединений.
В отношении статуса церковного права в конкретном государстве тоже существуют разные мнения. С нашей точки зрения, его необходимо рассматривать в качестве самостоятельной системы права1. Только в этом случае возможно выделение внутри него отраслей и подотраслей. В то же время существуют и иные позиции по этому вопросу: церковное право как часть корпоративного права; как часть международного права (свойственна для западной традиции); как публичное либо частное право, в зависимости от отделения Церкви от государства (таким образом, оно рассматривается как отрасль права). Последняя концепция критикуется прот. В. Цыпиным, поскольку Церковь для своих членов является универсальным организмом, пусть даже она является частной организацией для лиц, не принадлежащих к ней, и именно так на нее может смотреть государство (см.: [Цыпин, 2009, 23-24]). Проще говоря, Церковь обладает признаками и частной, и публичной организации.
Рассмотрение церковного права в качестве части международного права возможно в западной традиции, вероятно, исключительно в силу того, что глава Католической Церкви одновременно является главой государства Ватикан2. Для православной традиции такое вряд ли возможно. Кроме того, в праве церковном и в международном серьезно различаются источники права и порядок их принятия (в международном праве — в основном международные договоры).
М. Ю. Варьяс называет церковное право отраслью корпоративной правовой системы, внутри которой выделяет подотрасли внутреннего права (состоит из институтов церковного устройства и управления) и внешнего права (состоит из институтов взаимоотношения с государством и с иными исповеданиями) (см.: [Варьяс, 2001, 48–49]). Автор допускает и иной вариант — рассмотрение церковного права в качестве замкнутой системы, подобной «общей» системе права, с выделением внутри нее отраслей и подотраслей [Варьяс, 2001, 49]. При этом не вполне понятно, рассматривает ли автор корпоративное право в качестве самостоятельных правовых систем различных организаций, или все же как отрасль права государства: «В свою очередь, место церковного права в системе корпоративного права определяется спецификой последнего и прежде всего тем обстоятельством, что само явление корпоративного права есть достаточно условное, собирательное образование, в объективном смысле вбирающее в себя нормы права (корпоративные системы норм) различных, порой далеких друг от друга корпораций, а в научном плане представляющее собой некоторое обобщение особенностей и институтов этих правовых систем. Следовательно, церковное право, являясь частью комплексного, собирательного явления — права корпоративного, остается тем не менее совершенно самостоятельной правовой системой в рамках Церкви, которая влияет и на внешнюю среду, в том числе и на то право, которое исходит от государства» [Варьяс, 2001, 48].
Неясно, что именно автор имеет в виду под корпоративным правом, поскольку этот вопрос является дискуссионным. Право многих государств не относит религиозные организации к числу корпораций. В частности, ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации четко различает корпоративные и унитарные юридические лица по критерию участия (членства) учредителей в созданном юридическом лице и в формировании органов его управления (ГК РФ: часть 1, 2024, п. 1 ст. 65.1). Указанная норма относит религиозные организации к унитарным юридическим лицам. В то же время в науке корпоративного права существуют разные подходы к его определению: это комплексная отрасль права, включающая нормы разных отраслей; это образование, включающее нормы разных уровней (в т. ч. локальных); это часть предпринимательского права; это часть гражданского права; это внутрифирменное право, регулирующее все отношения в корпорации (см.: [Корпоративное право, 2019, 10]).
Взгляд на церковное право как на часть корпоративного права при понимании последнего в качестве отрасли права приводит к ситуации, когда церковное право фактически становится частью правовой системы государства. Однако ставить Церковь в один ряд с иными организациями, в т. ч. коммерческого характера, совершенно некорректно3. В то же время понимание корпоративного права как системы внутренних норм организации с некоторыми оговорками может быть принято, о чем будет сказано ниже.
Рассмотрение церковного права в качестве отрасли права государства (в т. ч. как подотрасли корпоративного права) сразу ставит вопрос о том, к праву какого именно государства оно относится. Этот вопрос может быть не так актуален в тех случаях, когда каноническая территория Поместной Церкви не выходит за границы одного государства (Византийская империя, Российская империя, Советский Союз, Болгария, Албания, Румыния и др.). В случае с Византийской империей периода расцвета в ее границах еще находились практически все Поместные Церкви. В любом случае, возникает проблема с канонами, статус которых выходит за пределы любой Поместной Церкви. В многонациональных Церквах, охватывающих территорию нескольких государств, приходится учитывать, что право конкретной Поместной Церкви становится частью права сразу нескольких государств. При этом возникает вопрос, как само государство относится к таковой ситуации (т. к. это зависит от конкретной модели церковно-государственных отношений), о чем еще будет сказано подробнее. По общеюридическим представлениям государство считает правом то, что само приняло, но в случае с церковным правом его источник иной — Церковь. В условиях Российской империи это было не так заметно, в т. ч. поскольку Св. Синод был вписан в систему государственных органов. Однако в условиях отделения религиозных организаций от государства данный вопрос вполне очевиден.
Поэтому, на наш взгляд, церковное право целесообразно рассматривать как самостоятельную правовую систему особого объединения, зачастую обладающего международным (наднациональным) характером. В этом случае церковное право можно считать корпоративным правом при понимании последнего как внутреннего права организации и с расширенным пониманием термина «корпорация». При таком подходе церковное право сближается с понятием локальных актов. В юридической теории под ними понимают «нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового распорядка)» [Матузов, Малько, 2004, 295]. Соответственно, церковное право в этом случае можно называть системой локальных актов Церкви (однако не стоит забывать, что она является весьма крупной структурой, объединяющей входящие в нее подразделения). Отметим, что акты любого государства в широком смысле тоже можно называть локальными, поскольку их действие ограничено определенной территорией, пусть даже уровень этой локальности будет намного выше, чем у любой иной организации.
По мнению А. А. Дорской, дореволюционные исследователи считали церковное право «особой правовой системой», но из-за того, что современные признаки отрасли права тогда еще не были четко определены; современное же церковное право, по ее мнению, вполне можно считать корпоративным (см.: [Дорская, 2008, 363]). По мнению Д. Д. Борового, церковное право как самостоятельная наднациональная система сложилось в XI–XII вв. в Европе, а немного позже и в России (см.: [Боровой, 2004, 35]). А. М. Иванов говорит о церковном праве как о параллельном праву государства (см.: [Иванов, 2000, 11]). Прот. Владислав Цыпин отмечает, что «церковное право совершенно самобытно по отношению к праву любого другого государственного или политического образования» [Цыпин, 2009, 23].
Особо следует отметить, что на мероприятиях Барсовского общества дискуссии о возможности рассмотрения церковного права в качестве корпоративного возникали неоднократно. Так, 23 июня 2022 г. в ходе работы круглого стола «Принципы права и церковный суд: проблемные поля» ряд участников высказались против такой трактовки (в т.ч. из-за того, что Церковь является некоммерческой организацией). В то же время на круглом столе «Проблемы церковного права: современные подходы юридической науки» (26 ноября 2021 г.) большинство участников считали возможным рассмотрение церковного права в качестве корпоративного [Принципы права и церковный суд: Круглый стол Барсовского общества ]. Положительное мнение по этому вопросу высказали многие участники круглого стола «Перечитывая заново…», состоявшегося 15 декабря 2022 г. в рамках VI Барсовских чтений [VI Барсовские чтения].
На VIII Барсовских чтениях, состоявшихся 6 декабря 2024 г., прозвучал доклад И. А. Мухаметзарипова «Религиозное право или религиозная регулятивная система? К вопросу о терминологии» [VIII Барсовские чтения], в котором была высказана мысль о том, что религиозные правовые системы более целесообразно именовать «религиозной регулятивной системой». В то же время при обсуждении доклада прозвучало мнение: несмотря на то, что государство считает правом лишь принятое им самим, право любого государства — это тоже регулятивная система. Поэтому нам все же представляется вполне возможным использование именно термина «церковное право».
Что касается вопроса о соотношении церковного права с правом государства, то в зависимости от модели государственно-конфессиональных отношений государство может 1) запрещать такую систему, 2) дозволять ее в пределах, не противоречащих своему праву, или же 3) признавать ее целиком либо частично в качестве части своей правовой системы. Причем это относится не только к праву Православной Церкви, но и к правовым системам иных религий / конфессий. Ситуация, подобная первому варианту, была в Российской империи в отношении недозволенных религий, отчасти в Советском Союзе в отношении всех религий, в настоящее время может быть в некоторых консервативных мусульманских государствах в отношении немусульманских религий.
Второй подход сейчас весьма распространен во многих странах в силу действия принципа отделения религиозных организаций от государства. В частности, такое отношение закреплено в действующем российском законе «О свободе совести и о религиозных объединениях»: «Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации...» (ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», 2024, ст. 15 п. 1). Таким образом, с точки зрения российского законодательства церковное право Русской Православной Церкви рассматривается как «внутренние установления религиозных организаций». Подобный же статус имеют и внутренние правовые системы религиозных организаций иных конфессий и религий.
Третий подход фактически был в Российской и Византийской империях (вполне возможно, существует и сейчас в странах с государственной религией). Прямо или косвенно эту мысль подтверждают высказывания ряда дореволюционных и современных авторов. Как отмечает прот. В. Цыпин, византийские церковно-правовые акты получали церковный авторитет в силу подписей архиереев, подпись же государственной власти придавала им статус гражданских законов (см.: [Цыпин, 2009, 36]). По отношению к современности он указывает то же самое: «государство может рассматривать Церковь как публичную корпорацию и даже признавать за церковными правилами статус государственных законов…» [Цыпин, 2009, 23]. А. М. Иванов высказывает подобную мысль: государство может придавать церковному праву статус своих законов (см.: [Иванов, 2000, 13]). А. А. Дорская считает, что дореволюционное церковное право России «можно определить как совокупность норм, установленных и защищаемых государством, определяющих структуру и деятельность Церкви» [Дорская, 2008, 50–51]. По мнению И. С. Бердникова, в христианском государстве церковные правила становятся государственными законами (см.: [Бердников, 1885, 13–14]).
Кроме того, уместно вспомнить, что законодательство Российской империи часто отсылало по определенным вопросам к праву Церкви, той или иной христианской конфессии, а в некоторых случаях — даже иноверной религии, что особенно заметно в сфере брачного права. М. А. Остроумов предлагал называть право неправославных исповеданий «вероисповедным правом» [Остроумов, 1893, 33]. В рамках рассматриваемого подхода условно можно говорить о том, что признаваемая государством правовая система Церкви составляет отрасль его права. По мысли А. М. Иванова, в некоторых современных государствах такая отрасль существует в связи с государственным статусом Церкви (в частности, в Греции) (см.: [Иванов, 2000, 5]). Такой же подход может быть и для других конфессий и религий, причем подобные отрасли могут быть как у государственной религиозной структуры, так и у иных.
Как уже отмечалось, традиционно церковное право делят на внутреннее и внешнее. Так, прот. В. Цыпин пишет: «В зависимости от того, идет ли речь о праве, регулирующем внутреннюю жизнь Церкви или ее отношения с иными общественными и политическими образованиями, прежде всего с государством, различают внутреннее (internum) и внешнее (externum) церковное право» [Цыпин, 2009, 25]. При этом не вполне понятно, включает ли автор право государства в состав этих составных частей церковного права, особенно во «внешнее право». По всей вероятности, да, поскольку он отмечает, что в сфере внешнего церковного права «Поместная Церковь зависит от воли государственной власти» [Цыпин, 2009, 22].
На наш взгляд, в состав внешнего церковного права не следует включать право государства. Под ним, внешним церковным правом, логично понимать именно церковные документы, регламентирующие взаимоотношения Церкви с государством, обществом, инославными конфессиями и иноверными религиями. В то же время в «светском праве» (как можно именовать право государства для его отличия от церковного права) имеющиеся нормы, связанные с различными аспектами деятельности религиозных организаций, для удобства можно называть «религиозным правом». Сам же термин «светское право» представляется более предпочтительным по сравнению с понятием «государственное право», т.к. в современной юриспруденции им обычно обозначают сферы государственного управления (в первую очередь Конституционное право).
Не стоит забывать и о том, что церковные правила могут иметь юридические последствия, в т. ч. в правоприменительных актах. Например, наложение прещения на церковного работника в соответствии с церковными правилами может иметь следствием расторжение трудового договора с ним при его наличии.
Заключение
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Термины «церковное право» и «каноническое право следует рассматривать как синонимы, а в их объем необходимо включать исключительно церковные документы любого времени появления, поскольку даже современные церковные акты принимаются на основе канонов и во их исполнение.
В состав церковного права нецелесообразно включать светские нормативные документы, т. к. они в наше время практически во всех государствах регламентируют исключительно внешние формы существования Церкви (в силу принципа отделения религиозных объединений от государства), что ранее не было свойственно для каноники в странах с государственной Церковью. Различаются и источники происхождения этих норм: соответственно Церковь и государство.
Церковное право возможно рассматривать как корпоративное право при понимании последнего как внутреннего права организации, не обязательно коммерческого характера, что сближает его с понятием локальных нормативных актов. При этом взгляд на него как на международное право, как на отрасль права государства или как на подотрасль корпоративного права ведет к ряду проблем.
В зависимости от отношения государства к религиозным правовым системам (разновидностью которых является церковное право) оно может полностью их отвергать, признавать внутренними установлениями религиозных организаций, имеющих право на существование при условии соблюдения права страны, либо признавать частью своей правовой системы. Второй случай наиболее свойствен современным государствам, в т. ч. России. При третьем варианте можно говорить о том, что система церковного права составляет отрасль права государства, что возможно в странах с государственной Церковью.
В состав внешнего церковного права, которое регламентирует отношения Церкви с государством, инославными конфессиями и иноверными религиями, целесообразно включать исключительно церковные документы по этим вопросам. В составе же светского права (как уместно называть право государства для отличия от церковного права или права иной религии) нормы, регламентирующие статус религиозных объединений, для удобства можно именовать «религиозным правом».