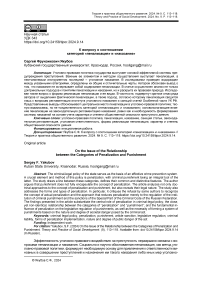К вопросу о соотношении категорий «пенализация» и «наказание»
Автор: Якубов С.Ф.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Уголовно-правовая политика государства выступает основой эффективной системы предупреждения преступлений. Важным ее элементом и методом осуществления выступает пенализация, а неотъемлемым инструментом последней - уголовное наказание. В исследовании проведен водораздел между указанными категориями, определены их общие и отличительные черты. Автором обоснован вывод о том, что наказание не исчерпывает собой содержание пенализации. В статье осуществлен анализ не только доктринальных подходов к понятиям пенализации и наказания, но и раскрыта их правовая природа. Исследован также вопрос о формах реализации пенализации и ее видах. В частности, подвергнут критике отказ ряда авторов от выделения фактической пенализации, а также подход, согласно которому пенализация сводится лишь к вопросам регламентации института уголовного наказания и санкций статей Особенной части УК РФ. Представленные выводы обосновывают центральное место пенализации в уголовно-правовой политике; тесную взаимосвязь, но не тождественность категорий «пенализация» и «наказание»; основополагающее влияние пенализации на законодательную регламентацию наказаний, равно как и необходимость формирования системы наказаний на основе учета характера и степени общественной опасности преступного деяния.
Уголовно-правовая политика, пенализация, наказание, санкция статьи, законодательная регламентация, уголовная ответственность, формы реализации пенализации, характер и степень общественной опасности деяния
Короткий адрес: https://sciup.org/149146405
IDR: 149146405 | УДК: 343 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.14
Текст научной статьи К вопросу о соотношении категорий «пенализация» и «наказание»
правового характера, которые отвечают требованию соразмерности, ведут к восстановлению социальной справедливости и достижению иных целей наказания. В силу сказанного исследование правовой природы, форм реализации и отграничения пенализации от категорий «наказание» и «санкция» занимает важное место в современной науке.
В основу изучения обозначенных аспектов теории пенализации были положены такие научные методы познания, как монографический, абстрагирования, аналогии, формализации и сравнительно-правовой.
Для отечественной уголовно-правовой доктрины традиционно понимание пенализации как разновидности правового регулирования, в результате которого в уголовном законе закрепляется система наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а через правоприменительную практику в конечном итоге реализуется уголовно-правовая политика. Данный подход получил обоснование в работах советских авторов1 (Блувштейн, 1987: 60; Коробеев, 1987: 137), находит он сторонников и в настоящее время. Так, А.П. Кузнецов отмечает, что «пенализация ‒ это отнесение определенных мер государственного воздействия к системе уголовного наказания, установление видов и размеров наказания, позволяющих оказать принудительное воздействие на лиц, совершивших общественно опасные деяния» (Кузнецов, 2017: 17).
Сходную позицию высказывает М.Т. Валеев, сводя суть пенализации к закреплению в законе уголовного наказания2. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие исследова-тели3. Однако указанные определения страдают явной неполнотой, поскольку авторы необоснованно ограничивают пределы пенализации лишь категорией «наказание», хотя пенализация охватывает собой всю палитру мер уголовно-правового воздействия на лицо, признанное виновным в совершении преступления.
Так, согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ, уголовный закон устанавливает не только виды уголовных наказаний, но и другие меры уголовно-правового характера. Неоспорим тот факт, что, несмотря на приоритетность уголовного наказания в системе мер уголовно-правового воздействия, последнее тесно связано и с иными мерами уголовно-правового характера. Кроме того, в силу концепта гуманизации уголовной политики России уголовные наказания находятся в отношениях не только постоянной взаимосвязи и взаимодействия, но и конкуренции с другими мерами уголовно-правового характера (Звонов, 2015: 96). В связи с этим более точно раскрывает сущность пенализации А.М. Каземиров: «Пенализация, определяя характер наказуемости каждого конкретного преступления, по своей сути является способом воздействия на негативные социальные процессы, а также регулятором поведения субъектов общественных отношений» (Каземиров, 2016: 101).
Вместе с тем спорным представляется и отнесение пенализации лишь к такой форме предупреждения, как борьба с преступностью4. Пенализация выполняет важную роль в процессе предупреждения преступлений в целом, включая, помимо борьбы, и другие его формы: профилактику и недопущение преступлений через общую превенцию, достигаемую закреплением в законе системы наказаний и иные меры уголовно-правового характера.
Одно из наиболее полных определений рассматриваемого понятия представлено в трудах Н.А. Лопашенко, по мнению которой «пенализация являет собой разработку основных начал и критериев применения самого жесткого вида государственного принуждения ‒ наказания ‒ за деяния, которым законодателем придан статус преступлений; формулирование его целей; установление его системы и пределов; фиксацию в уголовном законе совокупности иных мер уголовно-правового характера, требуемых для оказания воздействия на лиц, совершивших общественно опасные деяния» (Лопашенко, 2009: 142). Подобный подход находит поддержку и у других представителей отечественной уголовно-правовой науки (Бакаев, 2017: 85).
Особо следует отметить, что в систему пенализации отечественные авторы совершенно обоснованно включают как законотворческий процесс, так и «фактическую наказуемость», реализуемую путем назначения уголовного наказания (Агапов, Арзамасцев, Хлебушкин, 2011: 65; Коробеев, 1987: 137; Чернышова, 2018: 188).
Как справедливо указывает И.М. Антонов, пенализация представляет собой процесс установления характера наказуемости криминализированных деяний законодателем, а также процесс назначения наказания в судебной практике5.
По своим объективным характеристикам указанные формы пенализации неразрывно связаны между собой. Закрепление в законе системы наказаний и иных мер уголовно-правового характера само по себе не способно привести к достижению поставленной цели ‒ уголовно-правовому противодействию преступности, что делает этот этап пенализации абстрактным. Лишь через формализацию законодательных установлений в правоприменительной практике, посредством назначения наказания или применения иной меры уголовно-правового характера к конкретному лицу, признанному виновным в совершении преступления, пенализация приобретает завершенный характер и приводит к устойчивой правовой регламентации правоотношений. По мнению Н.А. Лопашенко, практическая пенализация есть не что иное, как индивидуализация ответственности (Лопашенко, 2009: 143).
В этой связи некоторые авторы вводят такие понятия, как «перспективная пенализация» ‒ закрепление в законе санкций статей и «ретроспективная пенализация» ‒ избрание судом индивидуальной меры ответственности (Расторопов, Горшков, 2023: 96).
В данном случае, поддерживая идею о наличии фактической пенализации, нельзя согласиться с необоснованным сужением ее границ лишь реализацией санкций норм Особенной части УК РФ.
Важным свойством пенализации выступает ее непрерывный характер. Закрепление в законе системы наказаний, общих начал их назначения, равно как и системы мер уголовно-правового характера, отнюдь не свидетельствует о завершенности процесса пенализации, поскольку вслед за этим наступает стадия применения указанных нормативных предписаний на практике. Этим пенализация отличается от криминализации, которая завершается принятием новой уголовно-правовой нормы1.
Среди актуальных проблем пенализации на современном этапе авторы отмечают недопустимое расхождение содержания законодательной и фактической пенализации (Горшкова, 2022: 168) как предпосылку неэффективности уголовно-правовой политики в целом.
Вместе с тем нельзя не указать на наличие дискуссии относительно включения в систему пенализации вопросов судебного правоприменения в части назначения наказания. Ряд авторов считают, что они выходят за рамки непосредственной пенализации2. Так, на взгляд Т.Р. Сабитова, недопустимо смешивать законотворческий процесс (определение характера наказуемости деяний) со стадией применения закона (процесс назначения уголовного наказания в судебной практике) (Сабитов, 2011: 137). В основу своего вывода он кладет тот факт, что установление юридических признаков деяния, его идентификация в качестве преступного и применение за него уголовного наказания есть самостоятельные этапы правоприменения. Не ставя под сомнение указанный аргумент, все же следует обратить внимание на то, что он не доказывает с безапелляционной определенностью, что пенализация не включает в себя процесс назначения наказания. Напротив, выводы автора свидетельствуют об обратном.
Таким образом, категория «пенализация» тесным образом связана с категорией «наказание», поскольку определяет тот концепт, в векторе которого законодатель осуществляет построение института уголовных наказаний: 1) систему уголовных наказаний; 2) цели наказания; 3) основы назначения наказаний; 4) основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания; 5) основания для отсрочки применения наказания; 6) условное осуждение и т. д.
От того, насколько научно обоснованным и целостным будет содержание пенализации, зависит эффективность общей и частной превенции. Непоследовательность, бессистемность и оторванность пенализации от объективных реалий криминальных угроз, в свою очередь, приводит к девальвации института уголовных наказаний. В этой связи следует присоединиться к справедливо высказываемой российскими учеными критике необоснованной либерализации уголовного закона, наблюдавшейся в период 2001–2020 гг. (Коваленко, 2019: 38‒41; Коробеев, 2014: 45‒53; Лапупина, 2023: 102; Лопашенко, 2014: 64‒76).
В данном аспекте актуально высказывание Н.Д. Сергеевского о том, что, определяя наказание за отдельные преступные деяния, положительное право всегда руководствуется началом соразмерности наказаний по их тяжести со значением преступных деяний (Сергеевский, 2008: 43).
Если рассматривать наказание не как абстрактную общеправовую категорию, а непосредственно как наказание, предусмотренное уголовным законом, то оно обладает нормативно-конструктивным характером и закрепляется законодателем в санкциях статей Особенной части УК РФ. Следует учитывать, однако, что «необходимо четко различать, с одной стороны, наказание как элемент санкции, подкрепляющей тот или иной правовой запрет, и наказание как реальную меру государственного воздействия, назначенную по приговору суда, или иными словами ‒ различать установление уголовного наказания и применение уголовного наказания» (Гузеева, 2021: 312).
Наказание, закрепленное в санкциях статей Особенной части, выражает собой тот объем (срок/размер), расположенный в определенных минимальных и максимальных границах, который, по мнению законодателя, соответствует степени и характеру общественной опасности того или иного преступного деяния. Если санкция представляет собой часть уголовно-правовой нормы, формально определяющую объективно-субъективную модель мер уголовно-правового воздействия, применяемых к лицам, виновным в совершении преступления (Козлов, 1989: 17), то наказание ‒ это мера уголовной ответственности, реализуемая в случае нарушения уголовно-правового запрета.
Думается, что для точного понимания правовой природы категории «наказание» следует исходить из заложенного в ней общеправового и частноправового содержания.
В общеправовом значении наказание ‒ это один из видов государственного принуждения, мер уголовно-правового воздействия, посредством которого реализуется уголовная ответственность. Справедливо в данном аспекте утверждение М.В. Кирюшкина о том, что наказание представляет собой «абстрактную возможность применения определенной меры воздействия, существующую постольку, поскольку данная мера предусмотрена уголовным законом в качестве наказания и может быть использована в случае совершения некоторого преступления» (Кирюшкин, 2001: 144).
В последнее время в науке стал все активнее применяться межотраслевой подход к исследованию правовой природы наказания, в рамках которого ему придается значение институционального правового образования1 (Кабанова, 2018: 168).
Придерживаясь такового, А.В. Малько высказывает обоснованное мнение о том, что «правовое наказание есть особое средство правового ограничения, применяемое в особом процессуальном порядке за совершение правонарушения на одной из стадий реализации юридической ответственности в целях общего и специального предупреждения, а также в целях исправления правонарушителя» (Малько, 2014: 20).
В частноправовом значении наказание представляет собой установленный в пределах санкции нормы Особенной части объем государственного принуждения, определяемый характером и степенью общественной опасности деяния. Так, В.С. Егоров отмечает, что «важным элементом уголовной ответственности является применение к осужденному наказания, которое является ее главным составляющим. Именно в нем заложены основные меры государственного принуждения, назначаемые лицу по приговору суда»2.
Таким образом, категории «пенализация» и «наказание» неразрывно связаны между собой и соотносятся как часть и целое. Наказание выступает инструментом пенализации как метода уголовно-правовой политики. Вместе с тем пенализация не ограничивается вопросами наказания, ее содержание расширяется за счет разработки иных мер уголовно-правового характера. Основными формами реализации пенализации являются:
-
1) дополнение и изменение норм раздела III «Наказание» УК РФ;
-
2) дополнение и изменение норм, регламентирующих иные меры уголовно-правового характера (раздел VI УК РФ);
-
3) изменение санкций статей Особенной части УК РФ;
-
4) правоприменительная практика назначения уголовных наказаний.
Пенализация через закрепление в законе нормативных предписаний относительно регламентации уголовного наказания определяет его правовую природу. В дальнейшем законодатель через оценку эффективности правоприменительной практики назначения наказаний за конкретные преступления получает «обратную связь», свидетельствующую о качестве законодательной регламентации института наказания в уголовном законе. В целом же и пенализация, и уголовное наказание выступают неотъемлемыми элементами системы предупреждения преступлений, являясь разноуровневыми инструментами реализации уголовно-правовой политики.
В силу сказанного следует признать некорректной постановку вопроса об ужесточении или смягчении наказания или санкций, поскольку в парадигме научно обоснованной пенализации наказание в рамках санкции Особенной части УК РФ должно соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния и никак иначе. В противном случае возникает правовая фикция, что категорически недопустимо и разрушительно для уголовно-правовой политики.
Список литературы К вопросу о соотношении категорий «пенализация» и «наказание»
- Агапов П.В., Арзамасцев М.В., Хлебушкин А.Г. Проблемы пенализации организованной преступной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1 (49). С. 64‒70.
- Бакаев С.В. Пенализация преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Теория и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 84‒87. https://doi.org/10.24158/ti-por.2017.8.18.
- Блувштейн Ю.Д. Уголовное право и социальная справедливость. Минск, 1987. 61 c.
- Горшкова Н.А. Теоретико-прикладной анализ пенализации кражи (ст. 158 УК РФ) на современном этапе // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1 (100). С. 166‒170.
- Гузеева О.С. Санкция уголовно-правовой нормы и ограничения прав лица, совершившего преступление // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: мат. XVIII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2021. C. 311‒314.
- Звонов А.В. Система мер уголовно-правового воздействия: сущность и содержание // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 95‒99.
- Кабанова Л.Н. К вопросу о соотношении понятий «санкция» и «наказание» // Государственно-правовые исследования. 2018. № 1. С. 167‒171.
- Каземиров А.М. Принципы пенализации // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2 (18). C. 101‒104.
- Кирюшкин М.В. Социальный механизм функционирования уголовного наказания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2001. № 1 (234). C. 144‒157.
- Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее реализации // Российский следователь. 2019. № 8. C. 38‒41.
- Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции: проблемы построения, классификации и измерения. Красноярск, 1989. 169 c.
- Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации: монография. Владивосток, 1987. 270 с.
- Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика современной России в сфере пенализации (депенализации): кнут или пряник? // Библиотека криминалиста. 2014. № 3 (14). C. 45‒53.
- Кузнецов А.П. Криминализация – декриминализация, пенализация – депенализация как содержание уголовно-пра-вовой политики // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). C. 16‒18.
- Лапупина Н.Н. Уголовная политика России в сфере пенализации на современном этапе // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2023. С. 102‒105.
- Лопашенко Н.А. Об уголовной политике и уголовном законе: последние тенденции (грустные размышления о невеселой материи) // Библиотека криминалиста. 2014. № 3 (14). C. 64‒76. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. 579 c.
- Малько А.В. Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы: монография / под ред. А.В. Малько. М., 2014. 271 c.
- Расторопов С.В., Горшков Н.А. Общетеоретические и прикладные аспекты пенализации на современном этапе // Вестник Владимирского юридического института. 2023. № 4 (69). C. 94‒97.
- Сабитов Т.Р. Принципы криминализации и пенализации общественно опасных деяний // Вестник НГУ. Серия: Право. 2011. Т. 7, № 1. C. 135‒142.
- Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века: исследование / отв. ред. А.И. Чучаев, А.А. Ашин. Владимир, 2008. 314 с.
- Чернышова Е.А. Пенализация и депенализация как основные категории уголовно-правовой политики // Государственно-правовые исследования. 2018. № 1. С. 187‒189.