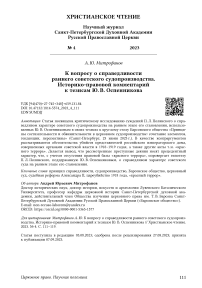К вопросу о справедливости раннего советского судопроизводства. Историко-правовой комментарий к тезисам Ю. В. Оспенникова
Автор: Митрофанов Андрей Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Научная полемика
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критическому исследованию суждений П. Л. Полянского о справедливом характере советского судопроизводства на раннем этапе его становления, использованных Ю. В. Оспенниковым в своих тезисах к круглому столу Барсовского общества «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы» (Санкт-Петербург, 23 июня 2023 г.). В качестве контраргументов рассматриваются обстоятельства убийств представителей российского императорского дома, совершенных органами советской власти в 1918-1919 годах, а также другие акты т. н. «красного террора». Делается вывод, что рассмотренные преступные деяния носят прецедентный характер, что, с учетом отсутствия правовой базы «красного террора», опровергает гипотезу П. Л. Полянского, поддержанную Ю. В. Оспенниковым, о справедливом характере советского суда на раннем этапе его становления.
Принцип справедливости, судопроизводство, барсовское общество, церковный суд, судебная реформа александра ii, цареубийство 1918 года, «красный террор»
Короткий адрес: https://sciup.org/140303087
IDR: 140303087 | УДК: [94(470)+27-745+348]+659.131.84 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_4_111
Текст научной статьи К вопросу о справедливости раннего советского судопроизводства. Историко-правовой комментарий к тезисам Ю. В. Оспенникова
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.4
Andrey Yu. Mitrofanov
On the Issue of the Justice of Early Soviet Jurisprudence. A Historical and Legal Commentary on the Theses of Yu. V. Ospennikov
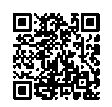
UDK [94(470)+27-745+348]+659.131.84
EDN SUMDJJ
Круглый стол «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы», проведенный под эгидой Барсовского общества 23 июня 2023 г. [Круглый стол Барсовского общества, 2023], стал важным этапом в работе Общества и имел следствием выработку значимых научных результатов. Указанное обстоятельство побуждает нас подробнее остановиться на отдельных проблемах, которые были обозначены в тезисах Ю. В. Оспен-никова, представленных для обсуждения на прошедшем круглом столе. Рассматривая различные коллизии церковного судопроизводства, автор тезисов во вводной части подробнее останавливается на столь сложном вопросе, как соотношение формы судебного процесса и его социального содержания. Автор приходит к интересному выводу, что форма судебного процесса, какой бы безупречной она ни была, сама по себе не может являться критерием справедливости суда, ибо справедливость судебной системы непосредственным образом зависит от существующих общественных отношений. В качестве примера Ю. В. Оспенников приводит мнение П. Л. Полянского, который полагает, что «в пореформенной Российской империи провозглашение и применение принципов формального равенства и состязательности приводило к парадоксальному результату: суд не стремился установить объективную истину, поскольку имущественное неравенство, т. е. материальные основания, закономерно приводили к тому, что «богатый торжествует над бедным, сильный над слабым» [Полянский, 2018, 60; Оспенников, 2023, 152]. При этом, с точки зрения П. Л. Полянского, к которой, по-видимому, присоединяется Ю. В. Оспенников, «когда к власти пришла партия большевиков, выражавшая „интересы промышленного пролетариата, беднейшего крестьянства и прочего наемного элемента («трудящихся»), лишенного средств производства“ [Полянский, 2018, 60]» [Оспенников, 2023, 152], суд «поменял свое содержание, превратившись в орудие защиты интересов уже других общественных групп. На раннем этапе своего становления советское право не предполагало принцип формального равенства, в отличие от пореформенной России, однако именно в это время суд стал действительно справедливым, защищая интересы абсолютного большинства населения, т. е. приблизился к действительному осуществлению принципа равенства [Полянский, 2018, 58–61]» [Оспенников, 2023, 152].
При всей значимости вопросов, непосредственно связанных с церковным судопроизводством, мы полагаем, что приведенные выше суждения коллег далеко выходят за рамки иллюстративных примеров и ставят важнейшую проблему как юридического, так и исторического характера, которую необходимо тщательно исследовать. Оставляя в стороне весьма спорное суждение П. Л. Полянского о характере судопроизводства в Российской империи после судебной реформы императора Александра II (1855–1881), отметим только, что даже с точки зрения весьма критически настроенных специалистов по истории судебной реформы 1864 г. реформа эта стала, наряду с земской реформой, одним из наиболее успешных преобразований, осуществившихся в эпоху Александра II, ибо в результате нее был учрежден гласный, бессословный, независимый от администрации суд, основанный на принципе состязательности сторон (см.: [Гессен, 1905, 107-179; Бажутов, 2015, 13-18; Богоненко, 2015, 19-26]). Если рассматривать этот суд, опираясь на «марксистскую» методологию, как это делает П. Л. Полянский, то в таком случае надо признать, что богатый торжествовал над бедным, а сильный над слабым не только в российских судах образца 1864 г., но и в любом западноевропейском или североамериканском суде, также основанном на принципах гласности, бессословности, независимости и состязательности, но функционирующем в условиях существования рыночной экономики. Мы полагаем, что исследователь права должен быть все-таки свободен от подобного политэкономического и идеологического «догматизма» в своих оценках.
Однако следующее суждение П. Л. Полянского заслуживает более пристального внимания, ибо, к сожалению, это суждение представляет собой не только образец исследовательской тенденциозности, но и выразительный пример исторической и правовой неубедительности. Мы не будем подробно останавливаться на критическом разборе всех историко-правовых сюжетов, проистекающих из утверждения П. Л. Полянского о том, что «на раннем этапе своего становления советское право не предполагало принцип формального равенства, в отличие от пореформенной России, однако именно в это время суд стал действительно справедливым, защищая интересы абсолютного большинства населения». Отметим только, что до принятия 26 мая 1922 г. на 3-й сессии IX Съезда Советов первого Уголовного кодекса РСФСР, на территориях бывшей Российской империи, находившихся под контролем вооруженных сторонников советской власти, вообще не существовало никакой системы законодательства, а нормальное судопроизводство на этих территориях в условиях отмены всех дореволюционных законов было заменено «революционной совестью». Что же касается раннего этапа становления советского права, то такие мероприятия советской власти, как экспроприация частной собственности в период военного коммунизма (1918–1921), официально объявленный «красный террор» (1918–1922), создание структур СЛОН-ВЧК-ОГПУ (с 1921 г.) и системы ГУЛАГ НКВД СССР (с 1929 г.), коллективизация (1928–1937) и Большой террор (1937–1938), предопределяли карательный характер ранней советской юстиции (см.: (Хаустов, Наумов, Плотникова, 2004, 5–8)). В действительности указанные мероприятия советской власти и судопроизводство, обеспечивавшее их реализацию, отражали интересы не «абсолютного большинства населения», а сравнительно узкой прослойки партийной и чекистской номенклатуры, заинтересованной в удержании узурпированной власти (см.: [Рутыч, 1960, 215– 224; Восленский, 1990, 523–593; Кокурин, Петров, 1997, 7–103, 143–159]). Неслучайно «тройки» НКВД, действовавшие в период Большого террора, вновь (после формального окончания «красного террора») узаконили внесудебные расправы (см.: [Краковский, 2021, 54–66]). Указанные мероприятия заставляют исследователей серьезно усомниться в применимости понятия «право» для обозначения бюрократических постановлений административно-командного характера, издававшихся органами советской власти на раннем этапе ее существования (1917-1953). Показательно, что впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «тройки» НКВД-УНКВД, коллегии ОГПУ и особые совещания НКВД-МГБ-МВД СССР, действовавшие в 1930-х, 1940-х и в нач. 1950-х гг., были признаны антиконституционными, т. е. противоречившими даже советской конституции (см.: (Сборник, 1993, 186–187)). В чем же в таком случае заключалась «справедливость» раннего советского права и судопроизводства, если в период «красного террора» в большевистской России не существовало даже правовой базы для его осуществления (Уголовного кодекса), а в период Большого террора действовали карательные структуры, существование которых противоречило букве советской конституции?
В поисках ответа на поставленные вопросы мы хотели бы остановиться на проблеме справедливости советского судопроизводства и советской правовой системы на раннем этапе ее становления более подробно, дабы проверить гипотезу П. Л. Полянского. Как известно, вскоре после октябрьского переворота органы советской власти начали проводить политику классового террора, направленную на физическое уничтожение и подавление потенциальных противников нового режима, в первую очередь офицеров русской императорской армии, других военных и гражданских специалистов, отказывавшихся идти на сотрудничество с большевиками, и различных представителей т. н. эксплуататорских классов, причем задолго до формального объявления «красного террора» 5 сентября 1918 г. (см. подр.: [Мельгунов, 1990, 19–159; Волков, 2001, 57-98; Ганин, 2006, 151-152, 159, 161]). Массовые расстрелы заложников, «социализация» женщин, привлечение на службу в ВЧК уголовных элементов являлись наиболее знаковыми проявлениями репрессивной политики советского режима в период Гражданской войны. Значительная часть уголовных преступлений, совершенных органами советской власти в период 1917–1919 гг. (более 150 дел), была установлена и раскрыта Особой следственной комиссией по расследованию злодеяний большевиков при Главкоме Добровольческой армии (позднее при Главкоме ВСЮР), образованной в Екатеринодаре 31 декабря 1918 г. приказом генерал-лейтенанта А. И. Деникина
(1872–1947) и работавшей до эвакуации армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля (1878–1928) из Крыма в ноябре 1920 г. (см. подр.: (Фельштинский, Чернявский, 2004, 4–139)). Но поскольку наиболее известными с политической точки зрения жертвами большевистского террора (еще до его формального объявления) стали представители российского императорского дома, мы кратко остановимся на обстоятельствах, связанных с их убийствами, и постараемся определить мотивы этих преступлений. Это поможет нам решить задачу, сформулированную выше.
Расстрел последнего российского императора Николая II (1894–1918) и членов его семьи (включая слуг) в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. стал наиболее громким преступлением органов советской власти (Уралоблсовета и местной ЧК, вероятно, с санкции Ленина). Обстоятельства этого преступления, тщательно скрывавшиеся большевиками, после освобождения Екатеринбурга войсками Сибирской добровольческой армии были изучены следователем Екатеринбургского окружного суда А. П. Наметкиным и группой офицеров при участии подполковника И. А. Бафталов-ского (1896–1959), в августе 1918 г. передавшего дело об убийстве государя и его семьи следователю по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда И. А. Сергееву (1872–1919). Позднее, 6 февраля 1919 г., приказом Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака (1874-1920) проведение следствия об убийстве царской семьи было поручено следователю Омского окружного суда по особо важным делам Н. А. Соколову (1882-1924) на основании процессуальных норм российского уголовного (дореволюционного) законодательства. Преступление, в частности, подпадало под стт. 99 и 100 Уголовного уложения в редакции 1903 г.: «О бунте против Верховной Власти и о преступных деяниях против Священной Особы Императора и Членов Императорского Дома» (Новое Уголовное уложение, 1903, 42–43). Н. С. Соколов установил, в частности, что чекистами была убита вся семья последнего российского императора, включая слуг (см. подр.: (Дитерихс, 1922, 12–234; Росс, 1987; Соколов, 1990, 152–436; Соловьев, 1998, 183-241; Соловьев, 2010, 5-80)). Тем самым, удалось сравнительно быстро нейтрализовать последствия активных мероприятий, проводимых сотрудниками советских карательных органов с целью дезинформации и сокрытия убийства императрицы Александры Феодоровны (1872–1918), цесаревича Алексея Николаевича (1904–1918) и великих княжен Ольги (1895-1918), Татьяны (1897-1918), Марии (1899-1918) и Анастасии (1901-1918). Следствию удалось даже выявить и арестовать одного из непосредственных участников преступления — П. С. Медведева (Кудрина).
Убийство Николая II и членов его семьи имело вполне конкретную политическую причину: большевики боялись, что императорская фамилия будет освобождена приближавшимися к Екатеринбургу частями Сибирской добровольческой армии. В марте 1917 г. Николай II отрекся от престола, но в соответствии с действовавшим на тот момент Актом о престолонаследии императора Павла I (1796–1801) от 5 апреля 1797 г. Николай II мог отрекаться только за себя, но он не имел права отрекаться за своего сына, цесаревича Алексея Николаевича, которому, в частности, приносила отдельную присягу армия (ПСЗРИ, 1830, т. XXIV, № 17910. С. 587–589). Юридическая ничтожность отречения Николая II за сына вполне отчетливо осознавалась в марте 1917 г. великим князем Михаилом Александровичем (1878–1918) и послужила одним из оснований его отказа от немедленного вступления на престол (см.: [Перескоков, 2017, 629–633; Сафонов, Рупасов, 2020, 271–284]). Убивая цесаревича Алексея Николаевича в июле 1918 г., представители органов советской власти уничтожали законного наследника престола и тем самым максимально затрудняли восстановление легитимной власти. Если бы большевистский режим пал под ударами Поволжской народной и Сибирской добровольческой армий летом-осенью 1918 г., то разогнанное большевиками в январе 1918 г. Учредительное собрание должно было быть созвано вновь. В том случае, если бы Учредительное собрание, созванное после падения большевизма в свободных условиях, высказалось затем в пользу восстановления монархии, то в таком случае, после убийства цесаревича, быстрое восстановление старшей ветви императорской династии на престоле уже не представлялось возможным.
Но екатеринбургский расстрел стал лишь промежуточным звеном в цепи аналогичных преступлений. За месяц до убийства Николая II и членов его семьи, в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. сотрудники Пермской ЧК и местной советской милиции совершили убийство великого князя Михаила Александровича и его секретаря, отставного подпоручика Н. Н. Жонсона (Джонсона; 1878–1918) (см. подр.: [Соколов, 1990, 329–333; Хрусталев, 2008, 489–505]). Останки жертв не найдены до сих пор. Как уже было отмечено, в марте 1917 г. Михаил Александрович был назван императором Николаем II в качестве своего преемника (вопреки Акту о престолонаследии 1797 г.); Михаил Александрович, понимая неправомочность своего вступления на престол в обход прав цесаревича Алексея Николаевича, отложил его до всенародного волеизъявления, но не отказался от него окончательно. Поэтому убийство великого князя было продиктовано прямым страхом большевиков за будущее созданного ими режима в случае освобождения великого князя войсками Сибирской добровольческой армии. Этот страх был столь значителен, что побудил пермских большевиков к расправе над великим князем даже несмотря то, что Сибирская добровольческая армия в июне 1918 г. находилась еще очень далеко от Перми1.
Однако далеко не все убийства членов российского императорского дома, совершенные большевиками летом 1918 г., были следствием рационального политического расчета. В ночь на 18 июля 1918 г. (спустя сутки после екатеринбургского расстрела) под Алапаевском сотрудники местных органов советской власти осуществили зверскую расправу над группой арестованных членов императорской фамилии, в которую входила сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Феодоровна (1864–1918), великий князь Сергей Михайлович (1869–1918), князь императорской крови Иоанн Константинович (1886-1918), князь императорской крови Константин Константинович (младший) (1890–1918), князь императорской крови Игорь Константинович (1894–1918), князь Владимир Палей (1896–1918), инокиня Варвара (Яковлева; 1880–1918) и Ф. С. Ремез, управляющий великого князя Сергея Михайловича. Чекисты вывезли арестованных из города и доставили к одному из рудников шахты Нижняя Селим-ская, затем оглушали каждого из них ударом обуха по голове и сбрасывали в шахту. Причем незадолго до убийства великому князю Сергею Михайловичу прострелили руку. Одновременно через местную газету под названием «Известия Пермского Губернского Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов» (№ 142) большевики распространяли дезинформацию о похищении великих князей некоей бандой. После освобождения Алапаевска Сибирской добровольческой армией в конце сентября 1918 г. началось следствие по делу об убийстве алапаевских узников. Своевременно предпринятые следственные действия вскоре (в конце октября) позволили арестовать убийц и обнаружить тела жертв, причем было установлено, что некоторые из убиенных (например, великая княгиня Елизавета Феодоровна и инокиня Варвара) оставались живы на дне шахты в течение нескольких дней после экзекуции (см. подр.: (Смолин, 1972, 3–13; Соколов, 1990, 318–329)). Обнаружение и эксгумация останков алапаевских узников в шахте Нижняя Селимская, проведенная под руководством полковника (впоследствии генерал-лейтенанта) И. С. Смолина (1884–1973), впоследствии утвердили Н. С. Соколова во мнении о том, что искать тела членов царской семьи под Екатеринбургом следует аналогичным образом в районе шахты Исетского рудника «Ганина яма», куда тела были первоначально сброшены большевиками и где Н. С. Соколову удалось обнаружить улики и вещественные доказательства, свидетельствующие о попытках уничтожения тел на этом месте. Расправа под Алапаевском не имела под собой никаких политических оснований, кроме социальной ненависти большевиков к представителям правящей династии.
Социальная ненависть превратилась в мотив очередного преступления в Петрограде полгода спустя, уже после официального объявления «красного террора» 5 сентября 1918 г. В ночь с 23 на 24 (либо с 29 на 30) января 1919 г. решением Президиума ВЧК от 9 января того же года на территории Петропавловской крепости были расстреляны великие князья Павел Александрович (1860-1919) (сын императора Александра II), Дмитрий Константинович (1860–1919), Николай Михайлович (1859–1919) и Георгий Михайлович (1863–1919) (Архив ВЧК, 2007, 318–319). Великие князья были расстреляны в качестве заложников, как впоследствии объяснялось, в ответ на убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург немецкими антикоммунистами. Останки великих князей могут находиться вместе с останками других жертв «красного террора» в расстрельных ямах на территории Петропавловской крепости, часть из которых после ряда случайных находок, имевших место в 1989, 2007 и 2009 гг., была раскопана и исследована экспедицией ИИМК РАН под руководством В. И. Кильдюшевского в 2010–2013 гг. (Кильдюшевский, Петрова, 2011, 477–503; Марголис, 2014, 175–182).
Как известно, великий князь Павел Александрович, будучи сыном императора Александра II, тем не менее не мог наследовать российский престол по причине пребывания в морганатическом браке с княгиней О. В. Палей (1865–1929). Остальные жертвы январского расстрела в соответствии с Актом о престолонаследии 1797 г. не принадлежали к наследникам первой очереди и на престол также не претендовали. Но к концу января 1919 г. положение большевистского режима стало довольно шатким: на Урале готовилась к наступлению армия Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака (1874–1920) (см. подр.: [Мельгунов, 2004, 57–144]); после освобождения Северного Кавказа войсками Добровольческой армии генерал-лейтенанта А. И. Деникина (1872-1947) Добрармия соединилась с донскими казаками и образовала Вооруженные силы Юга России, которые уже через полгода бросили самый серьезный вызов существованию советской власти за всю историю Гражданской войны (см. подр.: [Деникин, 2002, 245–257; Егоров, 2012, 200–230; Трофимов, 2018, 29–208]). Поэтому решение ВЧК об убийстве великих князей в Петропавловской крепости при всей его политической бессмысленности вполне объяснимо с психологической точки зрения. Реакция советских карательных органов на ухудшавшееся военно-политическое положение большевистского режима, вновь, как и в Алапаевске, проявила себя в организации и осуществлении убийства членов российского императорского дома, теперь уже в бывшей столице.
Физическое устранение членов российского императорского дома обычно готовилось карательными органами советской власти в лихорадочной спешке и временами (как, например, под Алапаевском) осуществлялось со средневековой жестокостью, без соблюдения элементарных юридических формальностей и хотя бы декоративных судебных процедур, на основании партийного «мандата». Мотивы подобных преступных деяний заключались как в страхе представителей большевистского режима перед неминуемой ответственностью за уже совершенные преступления в случае восстановления в стране законной власти, так и в стремлении повязать своих сторонников кровью представителей царской династии и тем самым заставить представителей большевистского режима на местах любой ценой бороться за удержание власти, добытой преступным путем.
Мы полагаем, что рассмотренные историко-юридические прецеденты в полной мере дезавуируют представления о «справедливости» раннего советского судопроизводства и полностью опровергают гипотезу П. Л. Полянского о справедливом характере советского суда и советской правовой системы на раннем этапе ее становления.
Список литературы К вопросу о справедливости раннего советского судопроизводства. Историко-правовой комментарий к тезисам Ю. В. Оспенникова
- Архив ВЧК (2007) — Архив ВЧК: Сб. документов / Отв. ред.: В. Виноградов, А. Литвин, B. Христофоров. Сост.: В. Виноградов, Н. Перемышленникова. М.: Кучково поле, 2007.
- Новое Уголовное уложение (1903) — Новое Уголовное Уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 года, с приложением предметного указателя. СПб.: Издание Камен-ноостровского юридического книжного магазина В.П. Анисимова, 1903.
- ПСЗРИ (1830) — Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание первое. Т. XXIV: С 6 ноября 1796 по 1798. № 17910. СПб., 1830.
- Сборник (1993) — Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993. С. 186-187. (Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х годов и начала 50-х годов». 16 января 1989 г.).
- Смолин (1972) — Смолин И.С. Алапаевск // Первопоходник. Лос-Анджелес. 1972. № 8. C. 3-13.
- Соколов (1990) — Соколов Н.А. Убийство царской семьи. СПб., 1990.
- Росс (1987) — Росс Н. Гибель царской семьи. Материалы следствия. Франкфурт на Майне: Посев, 1987.
- Фельштинский, Чернявский (2004) — Фельштинский Ю.Г., Чернявский Г.И. Красный террор в годы Гражданской войны по материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. М.: Терра-Книжный клуб, 2004.
- Хаустов, Наумов, Плотникова (2004) — Хаустов В.Н., Наумов В.П., Плотникова Н.С. Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД 1937-1938: Сб. документов. М., 2004.
- Круглый стол Барсовского общества (2023) — Баган В., свящ, Волужков Д.В., Гай-денко П. И., Митрофанов А. Ю, Оспенников Ю. В., Тарнакин Н.. А, Хохлов А. А., Шершнева-Цитульская H.A. Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы // Христианское чтение. 2023. № 3. С. 147-171.
- Бажутов (2015) — Бажутов К. В. Судебная реформа 1864 г. — этап в процессе демократизации судебной системы России // Судебная реформа 1864 года и ее значение для формирования правовых систем постсоветского пространства: проблемы теории и практики. Материалы XIV Международных Конивских чтений. 13-14 мая 2015 г. Владивосток: ВГУЭС, 2015. С. 13-18.
- Богоненко (2015) — Богоненко В. А. Судебная реформа 1864 года в России: материально-правовые предпосылки и гипотеза рецепции Гражданского кодекса Франции // Судебная реформа 1864 года и ее значение для формирования правовых систем постсоветского пространства: проблемы теории и практики. Материалы XIV Международных Конивских чтений. 13-14 мая 2015 г. Владивосток: ВГУЭС, 2015. С. 19-26.
- Волков (2001) — Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М.: Центрполиграф, 2001.
- Восленский (1990) — Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990.
- Ганин (2006) — Ганин А. В. Атаман А. И. Дутов. М.: Центрполиграф, 2006.
- Гессен (1905) — Гессен И. В. Судебная реформа. СПб., 1905.
- Деникин (2002) — Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. V: Вооруженные силы Юга России. Заключительный период борьбы, январь 1919 — март 1920. Минск: Харвест, 2002.
- Дитерихс (1922) — Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. Владивосток, 1922. Ч. I.
- Егоров (2012) — Егоров А.И. Разгром Деникина. М.: Вече, 2012.
- Кильдюшевский, Петрова (2011) — Кильдюшевский В. И., Петрова Н.Е. Находки захоронений жертв красного террора в Петропавловской крепости // Красный террор в Петрограде / Сост. С. В. Волков. М.: Айрис-Пресс, 2011. С. 477-503.
- Кокурин, Петров (1997) — Кокурин А. И., Петров Н.. В. Лубянка 1917-1960. Справочник. М., 1997.
- Краковский (2021) — Краковский К.П. Сталинский террор под «юридическим микроскопом» или «юридическое зазеркалье советской истории» (размышления по поводу сталинских репрессий, спровоцированные монографией В. М. Сырых «юридическая природа сталинского террора»: по директивам партии, но вопреки праву». М.: Юрлитинформ, 2020) // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 2. С. 54-66.
- Марголис (2014) — Марголис А.Д. Некрополь красного террора в Петропавловской крепости // Петербург. История и современность. Избранные очерки. СПб.: Центрполиграф, 2014. С. 175-182.
- Мельгунов (1990) — Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-1923. М., 1990.
- Мельгунов (2004) — Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Из истории Гражданской войны на Волге, Урале и в Сибири. М.: Айрис Пресс, 2004. Т. I, II.
- Перескоков (2017) — Перескоков Л. В. Великий Князь Михаил Александрович в 1917 году // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2017. Т.27. Вып.4. С. 629-633.
- Полянский (2018) — Полянский П. Л. Принцип формального равенства в историко-правовом контексте // Границы прав и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой теории (к 80-летию академика РАН В. С. Нерсесянца): Сб. трудов международной научной конференции (Воронеж, 1-2 июня 2018 г.). Воронеж, 2018.
- Рутыч (1960) — РутычН. Н. КПСС у власти. Очерки по истории коммунистической партии 1917-1957 гг. Франкфурт на Майне: Посев, 1960.
- Сафонов, Рупасов (2020) — Сафонов М.М., РупасовА.И. Вокруг отречения Николая II // Saint-Petersburg Historical Journal. 2020. № 2. С. 271-284.
- Соловьев (1998) — Соловьев В.Н. Сравнительный анализ документов следствия 19181924 гг. с данными советских источников и материалами следствия 1991-1997гг. // Покаяние. Материалы правительственной Комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского Императора Николая II и членов его семьи. Избранные документы. Сост. Виктор Аксючиц. М: Выбор, 1998. C. 183-241.
- Соловьев (2010) — Соловьев В.Н. Тайны старой Коптяковской дороги. М., 2010.
- Трофимов (2018) — Трофимов П.М. Дроздовская дивизия в генеральном сражении на путях к Москве осенью 1919 года. М.: Кучково поле, 2018.
- Хрусталёв (2008) — Хрусталёв В.М. Великий князь Михаил Александрович. М.: Вече, 2008.