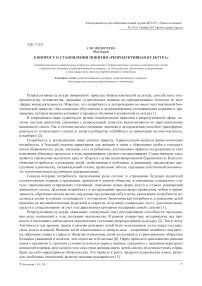К вопросу о становлении понятия "репродуктивная культура"
Автор: Федосеева Светлана Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Общая педагогика, история образования
Статья в выпуске: 5 (52), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальным вопросам отношения к деторождению в разные исторические эпохи, содержанию понятия «репродуктивная культура», её показателям, ценностным ориентация и биосоциальным рискам репродуктивного поведения.
Репродуктивная культура, репродуктивное здоровье, биосоциальные риски репродуктивного поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/14822618
IDR: 14822618 | УДК: 37.034
Текст научной статьи К вопросу о становлении понятия "репродуктивная культура"
Репродуктивная культура имманентно присуща общечеловеческой культуре, способствует воспроизводству человечества, оказывает существенное влияние на самореализацию личности во всех сферах жизнедеятельности. Известно, что потребность в деторождении не имеет инстинктивной биологической природы. Она социально обусловлена и детерминирована сложившимися нормами и традициями, которые индивид усваивает в процессе обучения в конкретной культуре [1].
В современном мире существуют разные поведенческие практики в репродуктивной сфере, поэтому система ценностей, связанных с репродукцией, зачастую видоизменяется по мере накопления жизненного опыта. Так, в течение жизни отношение человека к деторождению способно трансформироваться от сознательного отказа от детей (сообщество «сhildfree») до ориентации на многодетность, и наоборот [2].
Потребность в деторождении имеет разную природу. Краеугольной является физиологическая потребность, в большей степени характерная для женщин в связи с обретением особого телесного опыта (беременность, роды, лактация, уход за ребенком), достижением эффекта оздоровления за счет изменения обменных процессов в ходе вынашивания, грудного вскармливания. Существенным здесь является стремление исключить вред от аборта в случае незапланированной беременности. Психологическая потребность в рождении детей, свойственная и мужчинам, и женщинам, предполагает преодоление одиночества, эмоциональный отклик, проявление заботы, ощущение собственной значимости, получение новых источников самореализации.
Социокультурная потребность продолжения рода состоит в стремлении будущих родителей соответствовать нормам и традициям, принятым в данном обществе, в повышении социального статуса, гармонизации супружеских отношений, появлении новых форм досуга и отдыха, расширении жизненного опыта. Духовная потребность в деторождении предполагает проявление любви и привязанности, обретение смысла жизни, ощущение продолжения себя в детях, реализацию потребности поделиться своим духовным потенциалом с потомством.Экономическая потребность в рождении детей нацелена на жизнеобеспечение родителей в старости, получение социальных льгот, дополнительных средств к существованию за счет государственных программ поддержки семей с детьми [1].
Репродуктивная культура охватывает совокупный опыт регулирования способности продолжения рода, возникший в ходе эволюции человечества. В рамках конкретных исторических вех прошлого и настоящего наблюдается определенное состояние репродуктивной культуры [2]. Так в эпоху Античности для древних греков и римлян рождение детей было выполнением долга перед государством, родом и семьей. Наличие детей обеспечивало и личную цель – сохранение семейного имущества, обретение опоры в старости. Женатые и имеющие детей пользовались в греко-римских обществах бо́льшим уважением и почетом, чем холостые и бездетные [6]. Перед приходом христианства римская семья с крепкими и строгими устоями вступила в период кризиса, связанного с падением моральных ценностей и нравов, результатом чего стал отказ женщин иметь детей, многих мужчин вступать в брак, брать на себя определенные обязательства. Это привело к росту процента супружеских измен, разводов, свободных отношений, резкому падению рождаемости [5].
Отношение человека эпохи Возрождения к репродуктивным ценностям было неоднозначным. На заре Ренессанса репродуктивная культура имела рациональный, несколько пуританский характер. В период ее расцвета рациональный и чувственный, духовный и материальный компоненты обрели гармонию.
Рассмотрим подходы к трактовке вопросов репродукции, встречающиеся в трудах ведущих философов эпохи Нового времени, когда общественная жизнь освободилась от религиозного влияния, а идеалом становится сильная, самостоятельная, творческая личность [4]. Эта тенденция отразилась в трудах английских философов. Так Ф. Бэкон считал, что все лучшие начинания, принесшие максимальную пользу обществу, исходили от неженатых и бездетных людей, ничем не связанных, без домашних забот и обязательств, благодаря чему они способны полностью отдать себя заботам об обществе, т. е. философ, не оправдывая безбрачие и бездетность, не призывал к созданию семьи. Т. Гоббс представлял семью в виде «маленькой монархии», где «сувереном является отец или господин». Семья, по Т. Гоббсу, должна основываться на законном браке, «дозволенном гражданским законом». Философ-идеалист и психолог Д. Юм не отвергал существование различных форм брака, но был сторонником моногамного семейного союза, поскольку «брак есть соглашение, в которое вступают по взаимному согласию». Юм выступал с резкой критикой добровольных разводов и многоженства, ибо их неизбежным следствием являлось плохое воспитание детей.
Перейдем к анализу подходов к оценке репродуктивных ценностей немецких философов. По И. Канту, цель брака не ограничивается только рождением и воспитанием детей, т. к. «в таком случае брак расторгался бы сам собой, после того, как прекращалось бы деторождение». Если в имуществе Г.В.Ф. Гегель видит единство внешней вещи, то в детях это единство пребывает в духовной сфере, в которой родители любимы и любят. Семейное воспитание Гегель считает важным элементом в воспитании вообще. По его мнению, в процессе социализации человека для закладки личностного фундамента необходима семья.
На современном этапе развития человеческого общества западная семья становится нестабильной и легко поддается деструктивным общественным тенденциям псевдо-либерального толка. Не вызывает сомнений факт, что единственным основанием стабильности семьи может быть только нравственность [5].
Целесообразно проследить, как менялись взгляды на материнство и отцовство, любовь к детям в разные исторические эпохи. Исследователи школьного обучения в раннее Новое время отрицали жестокость родителей, прежде всего матерей, и приводили факты по стремлению защитить своих детей, подвергавшихся физическому воздействию при обучении мастерами, учителями в школах. При изучении отцовства отмечается, что отцовская любовь была, по сравнению с материнской, чем-то вне нормы . Отцовство рассматривалось в категории фрустрации в случае смерти детей [3]. В ходе разработки истории семейных отношений в средневековой Европе и Америке в трудах Ж.-Л. Фландран (Франция), Л. Стоун (Англия), Р. Трамбэч (США) показано, что интерес к истории материнства не был схож с интересом к истории отцовства, поскольку в первом видели естественное и даже биологическое предназначение женщины, как матери.При этом история родительства делилась исследователями на две эпохи: до XVIII в. и эпохи Просвещения и после. Примечательно, что мать в автобиографической литературе XVIII в. выступала в качестве «посредницы» между детьми и главой семьи. По мнению немецкой исследовательницы ИрэныХардах-Пинке, в это время существовало своеобразное «балансирование» отношений между матерью и ребенком в формате«между страхом/устрашением и любовью» [7].
Вопросы социальной предопределенности материнских отношений рассмотрены в работах Е. Бадинтер, Ф. Арьеса. Е. Бадинтер оценивает всю многовековую историю материнства до середины XVIII в. как период «материнского безразличия», аргументируя свою точку зрения спокойным отношением матерей того времени к детской смертности, распространенностью подбрасывания «лишних» детей, отказом родителей их прокармливать, «избирательностью» в отношении к детям: любовь к одним и намеренное унижение других [3].
По мнению германских историков, изучавших материнство в XIX в., оно представляло собой устоявшейся и статичный социальный институт (Ив. Шютце). Они видели в материнской любви до середины XX в. вмененную в обязанность женщине форму ее дисциплинирования. Иная точка зрения отражена в работах исследователей материнства доиндустриальной эпохи, согласно которой через материнство женщины того времени теряли статус «жертв» и могли в ходе самореализации ощутить собственную свободу и значимость.
В то же время, исследователи средневековой культуры и религиозной антропологии выявили, что понятие «правильного супружества» (в частности, представление о «хорошей» и «плохой» жене) и понятие материнства (в том числе представления о «плохой» и «хорошей» матери) развивались одновременно [3]. К началу XX в. возникла необходимость законодательного регулирования вопросов репродукции.
Зарубежных исследователей истории русского материнства чаще всего интересовало «освобождение советской женщины», «решение женского вопроса в СССР». Особый акцент был сделан на законе, запрещающем аборты [3]. Мы убеждены, что только достаточный уровень сформированности репродуктивной культуры населения и, особенно, молодежи позволит сохранить целостность семьи в силу готовности ее носителей к сознательному родительству и ответственному супружеству.
В модели репродуктивной культуры М.А Беляевой. представлены три взаимосвязанные подсистемы: ментальная, пронатальная, антинатальная. Пронатальная подсистема осуществляет социокультурную регламентацию действий, направленных на рождение детей.
Антинатальная призвана противодействовать способности продолжения рода с целью создания обратимого или необратимого бесплодия. Ментальная подсистема объединяет верования, нормы, традиции, специальные знания, определяющие отношение общества к рождению детей и отношение индивида к способности продолжения рода [2].
По мнению М.А. Беляевой, репродуктивная культура выполняет целый ряд универсальных функций по отношению к личности и обществу: функции социокультурной регуляции, адаптации, коммуникации, трансляции, социализации и инкультурации, а также функцию снижения биосоциальных рисков репродуктивного поведения.
Примечательны концептуальные положения, где раскрывается сущностный смысл репродуктивной культуры личности, который состоит не в «бегстве» от риска, а в возможности его подготовленного переживания, что повышает шансы конкретных мужчин и женщин на реализацию созидательного, а не разрушительного эффекта биосоциальных рисков, связанных с репродуктивным поведением человека.
К возможным биологическим рискам репродуктивного поведения М.А. Беляева относит ухудшение общего состояния здоровья, физическую гибель или утрату функциональной состоятельности организма, наступившей в результате объективно неблагоприятного течения репродуктивных процессов или их субъективного переживания. В данном случае процессы (зачатие, беременность, роды, лактация, естественная инволюция беременности, ее искусственное прерывание) служат факторами риска возможного последующего как морфофункционального, так и психологического неблагополучия, которое может носить обратимый или необратимый характер. Известно, что несоблюдение, как минимум, двухлетнего интервала между родами, необходимого для восстановления женского организма, повышает вероятность материнской и младенческой смертности.
В то же время, социальные риски, обусловленные рождением детей, связаны с такими объективными процессами, как снижение мобильности личности, ограничение возможностей профессионального роста, необратимое угнетение высших психических функций, что особенно актуально для работников интеллектуальных сфер деятельности, возрастание материальных затрат, сужение круга общения, возможностей выбора форм досуга и т. д. Это обусловлено необходимостью жертвовать собственными интересами во имя детей всю свою последующую жизнь, что может привести к хроническому неблагополучию родителей [1].
Для оценки уровня репродуктивной культуры личности могут быть использованы некоторые параметры. К ним относятся индикаторы репродуктивного поведения: репродуктивные установки, мотивы, планы человека. Медико-биологические показатели включают степень соответствия метода контрацепции возрасту и образу жизни, обращение за медицинской помощью на стадии подготовки к беременности и соблюдение медицинских рекомендаций на ее протяжении, соблюдение интервала между беременностями, количество родов и абортов, способ родоразрешения, продолжительность лак-тации.Критерии из области перинатальной психологии: степень готовности к рождению ребенка; освоение навыков ухода за новорожденным и собственным телом в послеродовом периоде; владение приемами детско-родительского взаимодействия в пренатальном и постнатальном периодах; уровень тревожности беременной, роженицы, кормящей; наличие послеродовой депрессии; качество партнерских отношений в супружеской паре после рождения ребенка [2].
Для определения уровня репродуктивной культуры всех категорий учащейся молодежи целесообразно использовать социолого-демографические индикаторы репродуктивного поведения, а для тех, кто уже реализовался в качестве родителя, отдельные медицинские и психологические критерии. Комплекс ценностных ориентаций, как показателя сформированностирепродуктивной культуры, включает: отношение к жизни – оценка ценности человеческой жизни, здоровью, рискам репродуктивного поведения; отношение к родительству – степень принятия/непринятия материнских/отцовских функций; приоритет ценностей семьи, детей, личной свободы и ответственности в ряду других ценностей.
Для успешного формирования репродуктивной культуры личности необходимо проявление у нее следующих качеств: рефлексия своих потребностей и возможностей, связанных с рождением детей, что является основой неприятия стихийного и рискованного репродуктивного поведения; альтруистичность, т. к. рождение детей – это предусмотренное природой самоотречение в пользу интересов рода; способность устанавливать устойчивые отношения психологической привязанности и заботы; ответственность, терпение и стойкость [1].
Мы понимаем репродуктивную культурукак целостное динамическое образование личности, включающее: знания о репродуктивных стратегиях: пронатальной (подготовке к рождению здорового ребенка, в том числе, на основе современных репродуктивных технологий) и антинатальной (сдерживание фертильности); ценностное отношение к репродуктивному здоровью (своему, партнера, будущего ребенка); безопасное репродуктивное поведение, предполагающее готовность к осознанному выбору репродуктивной стратегии (пронатальной или антинатальной), ориентацию на здоровой образ жизни обоих партнеров, совместную деятельность по репродуктивному здоровьсбережению[8].
Список литературы К вопросу о становлении понятия "репродуктивная культура"
- Беляева М.А. Культура репродуктивного поведения в российской повседневности: монограф. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2011.
- Беляева М.А. Репродуктивная культура: тенденции развития и механизмы трансляции в современном российском обществе: автореф. дис. … д-ра культурологии. URL: http://vggu.ru/content/dissertatsionnye-sovety.
- Карабанова С.Ф. Теория и практика домоведения (конспект лекций). URL:http://abc.vvsu.ru/Books/l_domoved/page0002.asp.
- Пушкарева Н.Л. Материнство как социально-исторический феномен. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=631.
- Рыбант И.В. Проблема реализации женщины в семье в античный период западной культуры//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2010. URL: http://jurnal.org/articles/2010/filos7.html.
- Слепцова А.О. Культура повседневности в эпоху Возрождения.//Аналитика культурологии. 2010. Вып. 2. URL: www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/216-article_28.html.
- Столярчук Л.И., Алешина Л.И., Столярчук И.А., Федосеева С.Ю., Шульгин Е.А. Физиологические и педагогические основы формирования репродуктивной культуры обучающейся молодёжи//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21371 (дата обращения: 05.10.17).
- Столярчук Л.И., Алешина Л.И., Столярчук И.А., Федосеева С.Ю. Формирование репродуктивной культуры молодежи. Волгоград: Известия Волгогра. гос. пед. ун-та. 2017. № 8 (121). С. 42-46.