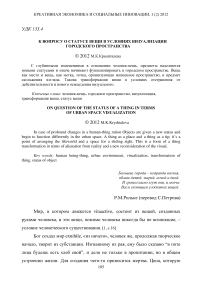К вопросу о статусе вещи в условиях визуализации городского пространства
Автор: Крышталева Марина Константиновна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Вещь в системе креативной экономики
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
С глубинными изменениями в отношении человек-вещь, предметы наделяются новыми статусами и иначе начинают функционировать в городском пространстве. Вещь как место и вещь, как метка, точка, организующая жизненное пространство, и предмет скольжения взгляда. Такова трансформация вещи в условиях отстранения от действительности и нового осмысления визуального.
Человек-вещь, городское пространство, визуализация, трансформация вещи, статус вещи
Короткий адрес: https://sciup.org/14238899
IDR: 14238899 | УДК: 133.4
Текст научной статьи К вопросу о статусе вещи в условиях визуализации городского пространства
Большие города – неправда волчья, обман детей, зверей, ночей и дней.
И громогласно лгут они, и молча Всем скопищем угодливых вещей.
Р.М.Рильке (перевод С.Петрова)
Мир, в котором движется vitaactive, состоит из вещей, созданных руками человека, и эти вещи, помимо человека никогда бы не возникшие, – условие человеческого существования. [1, с.16]
Бог создал мир exnihile, «из ничего», человек же, продолжая творческое начало, творит из субстанции. Изгнанному из рая, ему было сказано “в поте лица будешь есть хлеб свой”, и дело не только в пропитании, но в общем устроении жизни. Для создания чего-то приносится жертва. Цена, которую 105
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 платит живое, чтобы суметь остаться в мире – видоизменение, опредмечивание: ведь то, что на протяжении мига было живым духом, выступает мертвой буквой [1, с. 123]. Ничто не может длиться, если оно не одушевленно, если с помощью жертвоприношения оно не наделено душой. Но сегодня человек практически не вкладывает труда собственной энергии в преображение и созидание вещей. Эти процессы вынесены в сферы дизайна и кустарного hand-made’а.
В творении вещи человек проявляет себя как homofaber, выступает в роли демиурга. В этом смысле “вещетворение” и “вещепользование” конкретно и наглядно определяют весьма важный аспект жизни и деятельности человека, а через них и самого человека. Дух, содержание вещи, творит форму и ищет адекватное себе воплощение в физическом измерении, как пишет Зиммель [5; 671].
Само слово «вещь» заимствованно из старославянского языка-вешть(vektь). Оно имеет общую основу с древнеиндийским vákti -«говорить» и латинским vox «слово, голос». Именованная, означенная вещь знаменует освоение человеком мира, и в этом устремлении происходит становление «означенного пространства» культуры. Индустриализация, конвейерное производство первой половины 20-го века - причина современного заполнения мира вещами в геометрической прогрессии. Символом и сосредоточением этих процессов является город, именно поэтому “здесь<…> такая подавляющая масса кристаллизированного, обезличенного духа, что перед ним личность, можно сказать, совсем бессильна” [4, с. 23].
Создаваемые человеком предметы, вновь и вновь продуцируемые ремесленниками, в первую очередь, отсылали к праобразам в мире видимом. С развитием промышленности и появлением конвейера праобразом для выпускаемых партиями продуктов стали модели, в соответствии с конструкцией которых и воспроизводились многочисленные подобия.
Современный мир представляет собой знаковую реальность. Вещь высвобождается от своей реальной функции, которая остается лишь в качестве алиби. С разрушением строгой социальной иерархии вещи потеряли свой закрепленный символический статус. Вещи более не наделены душой, и их символическое присутствие оказывается от нас скрытым. Определяя знак как то, что толкует и проясняет, следует задуматься о том, что действительный мир представляет собой даже не мир знаков, но мир меток, лишь оповещающих нас, но не несущих смысловую нагрузку.
С изъятием из вещи идеального она становится предметом размещения и комбинаторной игры [3, с.24]. Она более не находится в поле таинств. Как, например, сферы сексуального, политики, она выведена в реальность и якобы раскрывается в ней в чудовищном преувеличении. Вырванная из метафизического пространства вещь существует по структурным законам ценности. Вещи абстрагированы от исторической энергии, так как происходит разрыв традиций, и они оказываются вырванными из лона своего исторического бытия. Тоска по укорененности в истории, ”возвращению в лоно матери “актуализируется в обращении к антикварным вещам. Процессы музеефикации характерны не только для архитектурной составляющей городского пространства, но и его вещной наполняющей. Утратив способность к реализации своего назначения, заключенная за стеклом вещь подобна мумии. Физически наличествуя, вещь умирает и в своем множестве лишь количественно заполняет пространство.
Нам следовало бы научиться сознавать, что вещи сами суть места, а не только принадлежат определенному месту [8, с.284]. Вещный мир во всем своем многообразии становится частью культурного пространства города. Пространство неразрывно связано с вещественным наполнением т. е. со всем тем, что так или иначе «организует» пространство, собирает его, сплачивает [8, с.255]. Как часть ландшафтной среды вещи дополняют, сообразуют ее структуру.
Формирование пространства посредством его вещного заполнения – идея не новая, но, только при замене ландшафта понятием пространства оформляется новый смысл этого тезиса. Спад ландшафтности культурных форм (скульптуры, элементов архитектуры, предметов быта) сигнализирует об отрыве вещи от земли-родительницы, как это происходит и с человеком, особенно в городской культуре. Здесь все формы выводятся путем моделирования отличий [2, с.123]. Они не отсылают к реальной среде, они сами ее создают, реальностью становится то, что воображаемо. Особую роль в визуализации городского пространства играют современные гаджеты, создающие так называемое киберпространство: образ мира формируется не через взаимодействие, в котором и происходит заново раскрытие сущности предмета, а посредством другого визуального образа.
Переживание города как целостной и органичной среды постепенно вытесняется переживанием вещей [7]. В увеличивающейся скорости производства и перепроизводства вещей, их “текучести” согласно не природной, а потребительской эволюции создается образ движимого пространства- “пространства потока”. Несмотря на то, что «веществовать»-единственная гарантия действительности и долговечности внутри мира, вещи все быстрее исчезают из жизни человека, все чаще стремятся освободить место в его жизни для следующих вещей. Они теряют свое основное свойство – стабилизировать, сохранять и оснащать жизнь. С обретением легкости получения вещи, особенно в мегаполисе, теряется коэффициент затрачиваемого труда на ее обретение. Чем меньше своей энергии человек вкладывает в создание овеществленного пространства, тем легче ему с ним расстаться, так как это уже не угрожает ему утратой положенной в нее ценности и приводит к универсальному распространению “симулякров”, сообразных этому темпоральному измерению. Но не только вещь удостаивается статуса копии и призрака, не отсылающего к реальности.
Е.В. Соджа называет город постмодерна симулякром, в котором производится гиперреальность и царит потребление [9; 131].
Следуя размышлениям Флюссера, можно предположить, что субъект становится объектом действия, происходит рокировкав мировой иерархии вещь-человек-Бог. Внимание человека все больше концентрируется на вещности мира. С эпохи Возрождения мы понимаем объективный мир как нам подлежащий и нас «несущий» неодушевленный контекст. В нашем стремлении к освобождению от этого напряжения ускользает от внимания влияние вещи на физическое, психическое, социальное измерения человеческого существования. Недаром в современной социологической науке происходит “поворот к материальному”.
Горожанина можно оправдать, поскольку он находится внутри такого информационного потока сменяющихся вещей, что осмысление столь быстро меняющихся явлений парализовала бы его жизнедеятельность. Человек не справляется с той свободой, которую он даровал вещи. Без вещей невозможно его существование, но в условиях перепроизводства страдает его экзистенциальный код. Поток предметов на потребу массовой культуры стандартизирует человека, превращая его в жертву развития предметного мира [2].
Список литературы К вопросу о статусе вещи в условиях визуализации городского пространства
- Арендт Х. Vitaactiva, или О деятельной жизни. -СПб.: Алетейя, 2000
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. -М: Добросвет, 2006
- Бодрийяр Ж. Система Вещей. -М: Рудомино, 2001
- Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. -Логос № 3-4., 2002
- Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры//Понятие и трагедия культуры. -М., 1996.
- Мухина В. Реальность предметного мира//Развитие личности № 4. 2005 http://rl-online.ru/articles/Rl04_05/402.html.
- Папушина Ю.О. Проблематика города в работах Ж.Бодрийяра//Культурные миры большого города. Материалы “Майских чтений” ПГТУ. 2007 http://maiskoechtivo.pstu.ru/2007/1/2/2.html.
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Семантика и структура. -М., 1983
- Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. -М.: новое литературное обозрение, 2011.