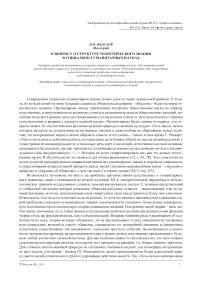К вопросу о структуре теоретического знания в социально-гуманитарных науках
Автор: Федулов Игорь Николаевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен вопрос теоретического уровня социальных наук и гуманитарных наук. Дается сравнительный анализ теорий в социальных науках и гуманитарных и естественных науках. Подтверждено, что синергия является ключом к решению проблемы отношений между естественными науками и гуманитарными науками.
Освещена проблема теоретического уровня социально-гуманитарных наук. дан сравнительный анализ теорий в социально-гуманитарных и естественных науках. обосновывается, что синергетика есть ключ к решению проблемы взаимоотношения естественных и гуманитарных наук, социально-гуманитарная теория, естественнонаучная теория, центральные компоненты теории в социально-гуманитарном знании
Короткий адрес: https://sciup.org/14822688
IDR: 14822688
Текст научной статьи К вопросу о структуре теоретического знания в социально-гуманитарных науках
Современное социально-гуманитарное знание далеко ушло от идей «социальной физики» О. Конта, но во всей своей полноте большая сложность объекта исследования – общества – была осознана относительно недавно. Противоречие между стремлением построить общественные науки по образцу естественных и невозможностью выдвигать точные и релевантные модели общественных явлений, подобные моделям в физике, находило разрешение в сознательном отказе от методологического образца естествознания и разрыве с идеалом «единой науки». Неокантианцы были одними из первых, кто открыто заявил об онтологическом различии явлений природы и явлений культуры: «Есть науки, целью которых является не установление естественных законов и даже вообще не образование новых понятий; это исторические науки в самом широком смысле этого слова», – писал в свое время Г. Риккерт. «Они хотят излагать действительность, которая никогда не бывает общей, но всегда индивидуальной, с точки зрения ее индивидуальности; и поскольку речь идет о последней, естественно-научное познание оказывается бессильным, так как значение его основывается именно на исключении им всего индивидуального как несущественного. <…> История не хочет генерализировать так, как это делают естественные науки. И обстоятельство это является для логики решающим» [12, c. 44, 78]. Эти слова почти на целое столетие предопределили направление развития гуманитарного знания и породили уверенность в существовании непреодолимой пропасти между двумя главными направлениями науки – «науками о природе» и «науками об обществе», с чем так много и горячо спорил Ч.П. Сноу [13].
Возможность по-новому взглянуть на проблему противостояния естественных и гуманитарных наук появилась лишь с появлением во второй половине ХХ в. синергетической парадигмы и методологических приемов исследования сложных самоорганизующихся систем. С позиции представлений о глобальной эволюции материи появление общества разумных существ – закономерный этап ее самоорганизации, поэтому использование идей синергетики здесь представляется более чем уместным. В частности, этот подход позволяет если не решить, то хотя бы немного продвинуться в решении старой проблемы социально-гуманитарного знания: невозможности построить более-менее универсальную и адекватно предсказывающую теорию социальных явлений. Построение такой теории – цель любой науки: напомним, что с точки зрения естественнонаучной методологии предсказательная функция теории столь же фундаментальна, как и объяснительная. Вопреки мнениям ряда гуманитариев об особенности их наук, теории которых объясняют, но не предсказывают в силу уникальности изучаемых ими социальных явлений и самого общества, специалисты по нелинейной динамике и синергетике установили существование так называемого горизонта прогноза событий, заключающееся в конечности промежутка времени, на протяжении которого можно делать достоверные предсказания о будущем любой достаточно сложной системы. Для нас особенно важно то обстоятельство, что чем сложнее устроена прогнозируемая система, тем короче этот промежуток времени, т.е. ближе горизонт прогноза. Для сложных систем неживой природы он составляет считанные недели: для атмосферы не превышает трех недель, для океана – месяца [7]. Возможность делать предсказания на более длительный период дается ценой сознательного грубого упрощения действительности. Так, столь сильно ценимая нами универсальность естественнонаучных теорий есть результат абстрагирования и схематизации, далеко не всегда возможной при изучении явлений общественной жизни и культуры, где необходимость и детерминизм сталкиваются со свободной волей индивида – движущим началом общественной жизни и истории. Абстрагирование от этой воли исключает понимание действительных причин происходящих событий и вместо грубой, но универсальной модели приводит к абсурду. Именно свобода воли вносит в гуманитарную картину мира элемент случайности и хаоса, который присутствует также и в естественнонаучной картине мира, но попадает в нее иначе – через большое количество и неизмеримую сложность причинно-следственных связей между ее составными частями. Присутствие элемента случайности и хаотизации в указанных картинах мира и порождаемое им существование конечного горизонта прогноза событий снимает онтологическое противоречие между их основными компонентами – естественнонаучными и социально-гуманитарными теориями.
Весьма важным представляется вопрос о правомерности выделения теории в гуманитарных науках в качестве самостоятельной единицы методологического анализа. Возможно ли существование теорий в социально-гуманитарных науках, которые бы по своей логической структуре, проверяемости, фальсифицируемости и прочим параметрам соответствовали бы теориям естествознания? На этот счет имеются разные точки зрения. С. Ларсен в двух своих работах, опубликованных в составе редактируемых им коллективных монографий [5; 6], придерживается мнения, что это в принципе возможно, хотя добавляет, что «внешний вид» теорий может сильно различаться. Ученый понимает теорию как общее утверждение, определяющее причинно-следственное отношение (или корреляцию) между одной зависимой и одной или несколькими независимыми переменными [6, c. 30]. Легко обнаружить, что такая дефиниция теории вполне соответствует определению, даваемому логикой [2, c. 333]. Здесь можно разглядеть и основополагающие принципы, и систему идеализированных объектов, и правила вывода, и сами вводимые законы. Однако выделение и генерализация указанных составляющих научной теории в гуманитарной сфере часто сопряжены с трудностями. Особенно сложная ситуация возникает при попытках эксплицировать законы в теле гуманитарной научной теории. Весьма распространенной является точка зрения, согласно которой установить законы в социальных науках невозможно из-за способности человека интерпретировать и использовать свое знание об обществе в собственных действиях. Поскольку интерпретации постоянно меняются и испытывают влияние изменений, происходящих в обществе, возникают явления, которые нельзя адекватно интерпретировать и объяснить на «языке прошлого». В связи с этим и создание теорий, актуальных более или менее продолжительное время в общественных науках, невозможно. Эту точку зрения поддерживали, в частности, Ч. Тейлор [16] и К. Поппер [11].
Л. Витгенштейн, напротив, усматривал невозможность построения полноценной теории в социо-гуманитарном знании в изменении не столько самой реальности, сколько языка и правил построения языковых конструкций, описывающих ее: «Наше использование языка определяется правилами, но правила – будучи социальными институтами – динамичны, гибки и склонны изменяться <…> причем, как и в каком направлении изменения будут осуществляться, предсказать невозможно <…> [Они] не основаны на рационально предсказуемых, универсальных образцах» (цит. по [5, c. 27]). Поскольку и явления, и их интерпретации, и сами правила языка новые, исследователи неспособны сформулировать теории, объясняющие существующие и прогнозируемые новые явления. Общим в данных точках зрения является то, что все они отмечают изменчивость и не придают большого значения устойчивым, общим особенностям (инвариантам) в развитии знания, языка, интерпретации.
Критику возможности существования и выдвижения теорий в социально-гуманитарном знании на сегодняшний день можно свести к нескольким ключевым пунктам. Во-первых, возражения могут носить идеологический характер. Каждая научная школа развивает собственный взгляд на процессы, происходящие в обществе, и, как правило, расходится во взглядах с представителями других школ. Хрестоматийный пример – советская обществоведческая школа, стоявшая на марксистских позициях и подвергавшая критике все теории, которые не использовали в качестве базовых постулатов идеи
«классовой борьбы» и «экономического детерминизма» в развитии общества. Во-вторых, возражения могут касаться особенностей универсализации и генерализации закономерностей. Спектр мнений достаточно широк: от частичного признания до полного отрицания постулатов строящихся теорий. И если представители умеренно антисциентистских течений все же допускают существование адекватных реальности теорий общества при условии, что удастся преодолеть все искажения в понимании подлинных мотивов поступков людей, то постмодернисты категорически отрицают саму возможность теоретического обобщения в социальных и гуманитарных науках. Мотивы поступков строго индивидуальны и не могут быть обобщены, поэтому универсальных взаимосвязей не существует. Исторические и культурные события, политические решения локальны и также индивидуальны и нерегулярны, кроме того, явно нерациональны и зависят от непрерывно меняющегося социального и культурного контекста. Существуют также научные школы, представители которых утверждают искусственность, «сконструированность» общественных отношений (например, социальный конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана), которые в силу этого носят теоретически непредсказуемый, случайный характер. Очевидно, что утверждение этого равносильно отрицанию каких бы то ни было закономерностей в развитии общества. Мы полагаем, что факты, надежно установленные обществознанием, не подтверждают позицию социальных конструктивистов. Более того, нетрудно показать внутреннюю противоречивость подобной точки зрения: если социальные отношения случайны, невозможно их систематическое изучение средствами науки и, следовательно, невозможно даже утверждать что они именно случайны, а не являются следствием законов настолько сложных, что неподвластны нашему разуму .
Наконец, третья группа возражений относится преимущественно к логике самой теории и, на наш взгляд, является самой интересной и дискуссионной. При изучении социума нелегко (а подчас и невозможно) отделить часть от целого, а причину – от следствия. Соответственно, простые «механистические» модели и теории на практике работают очень плохо, если работают вообще. Традиционно именно эта особенность социально-гуманитарного знания (невозможность начинать изучение общественных и культурных явлений с самых простых моделей, далее постепенно усложняя их) считалась главной среди тех признаков, которые отличают его от знания естественнонаучного. Однако с открытием квантовой физики, а позже и синергетики, оказалось, что схожие логические проблемы имеются и у них. «Линейный» мир ньютоновской физики совсем не похож на сложный нелинейный мир синергетики, он вечно стремится к равновесию, и в нем невозможна никакая самоорганизация. Поэтому усложнение линейных уравнений теоретической модели нелинейными членами настолько кардинально изменяет ее поведение, что следствия не берутся предсказать сами исследователи. Иногда в подобных случаях говорят о хаотизации поведения системы и очевидно, что случайность (т.е. невозможность прогнозирования) в этом случае – неотъемлемое свойство системы, а не досадное следствие неполноты знаний о причинах явлений, как думали когда-то…
В обществознании ситуация очень похожая. Экономистам (и не только им) известна модель «свободного рынка», изобретенная более двухсот лет назад, в которой невозможны ни глобальные резкие отклонения от равновесия (кризисы), ни самоорганизация, следствием которой является, например, образование транснациональных корпораций. Данный пример хорош тем, что даже непосвященному ясна несостоятельность этой модели. Более адекватная реальности фрактальная экономическая модель, имплицитно содержащая и более высокую вероятность глобальных кризисов, и способность к самоорганизации, неизмеримо сложнее (подробнее см. [8; 9]).
Революционные изменения в современном естествознании затронули не только содержание теории, но и ее фундаментальные логические основы. В микромире и сложных самоорганизующихся системах макромира целое уже не тождественно простой сумме составляющих его частей, как нас учит классическая аристотелевская логика. Кроме того, основной методологический принцип как квантовой теории, так и теории самоорганизации – принцип дополнительности – также играет важную роль при изучении проблем сознания, а следовательно, значим при изучении общества. В нашей работе мы покажем его влияние на структуру теории в общественных и гуманитарных науках на уровнях базовых моделей, законов, оценок.
Как же строится научная теория в социально-гуманитарном знании? Представители разных научных направлений и школ дадут разные ответы на данный вопрос. Научное творчество столь же индивидуально, как и художественное, но и в том, и в другом случае есть вполне определенные правила игры. Мы полагаем, что в основе любой научной теории всегда лежит некоторая теоретическая модель. Какое отношение она имеет к реальности? Прежде чем ответить на данный вопрос, заметим, что теория всего лишь отражает некоторые наиболее существенные черты изучаемого явления и ни в коем случае не может претендовать на его исчерпывающее описание. Поэтому любая теоретическая модель есть некоторым образом ограниченная объективная реальность, и построить теоретическую модель значит задать вполне определенное отношение ограничения на некотором множестве объектов. С точки зрения логики, теоретической моделью является некоторое отображение, заданное на множестве всех возможных свойств изучаемого объекта. Поскольку количество свойств любого реально существующего объекта ничем не ограниченно, процесс построения теоретической модели представляет собой ни что иное, как воплощение известного метода диалектики – восхождения от «абстрактного к конкретному» в форме ограничения количества рассматриваемых свойств и выделения среди них наиболее существенных с позиции той или иной теории. Сформулированный в таком виде «принцип ограничений» был введен в арсенал философии и методологии науки С.В. Илларионовым еще почти полвека назад, будучи успешно примененным к анализу физических теорий [3]. Однако у нас имеются основания для расширения указанного принципа и на область социально-гуманитарных наук.
К. Попперу приписывают авторство максимы, в сжатом виде звучащей как: «Теория запрещает». В такой формулировке она, по сути, является концентрированным выражением введенного в обиход этим же философом известного принципа фальсификации, определяющего границы применимости теорий и служащего для демаркации научного знания от ненаучного, претендующего на «всеохват-ность». Теория при помощи законов должна не только объяснять наблюдаемые феномены и предсказывать, что может случиться и действительно случается при определенных условиях, но и указывать на то, что при данных обстоятельствах произойти не может, давая своего рода «отрицательный прогноз». С этой точки зрения принцип фальсификации и рассмотренный нами выше принцип ограничений эквивалентны. Именно эта их эквивалентность и позволяет нам утверждать справедливость принципа ограничений как не только естественнонаучного, но и общенаучного.
Общность структуры теоретического знания в естественных и гуманитарных науках обращает на себя внимание ряда современных исследователей – специалистов в частных науках. Среди относительно недавних работ, посвященных данному вопросу, следует отметить статью известного российского психолога А.В. Юревича [15]. Прежде всего она интересна тем, что автор, хотя и опирается на материал психологических теорий, все же явно стремится перешагнуть границы своей области и распространить полученные результаты на все гуманитарное знание. Он видит психологию как достаточно типичную гуманитарную дисциплину, которая, тем не менее, тяготится своим пребыванием в лоне социально-гуманитарных наук и очень старается походить на «старших братьев» – естественнонаучные дисциплины. А.В. Юревич развивает весьма стройную концепцию структуры психологического (и вместе с ним социогуманитарного вообще) теоретического знания, основные положения которой представляется весьма уместным изложить здесь.
Исходной посылкой автора является констатация разделения психологических теорий на два обширных класса: общих психологических теорий и теорий «среднего ранга», причем отмечается условность границы между ними. Теории среднего ранга в случае своего методологического успеха часто обнаруживают тенденцию к перерастанию в общие теории. Наиболее яркий пример подобного перехода – возникшие в 1970-е гг. в социальной психологии теории «каузальной атрибуции» и справедливости. При этом зачастую подобные переходы не сопровождаются расширением предметной области теории или методологической базы. А.В. Юревич отмечает: создается впечатление, что общие теории отличаются от теорий среднего ранга не более широкой областью значений, или сферой охвата изучаемой реальности, а лишь большим числом сторонников (Там же).
Помимо этой весьма условной классификации можно также выделить и другие основания. Одним из таких оснований может являться когнитивное воздействие на предмет исследования, порождающее 1) теории-обозначения; 2) теории-объяснения; 3) теории-систематизации. Другое, не менее важное и перспективное основание классификации – тип методологической рефлексии изучаемого объекта. На этом пути можно выделить теории, ориентированные на 1) обыденный опыт; 2) эмпирические исследования; 3) общую методологию или идеологию.
Наличие многочисленных функциональных видов теории, обилие критериев, акцентируемых в первую очередь при ее выдвижении, на наш взгляд, свидетельствует о методологической незрелости теоретического знания в социально-гуманитарных науках по сравнению с естествознанием. Это неудивительно, если принять во внимание ситуацию в социологическом и историческом познании, описанную нами выше. Естественные науки давно миновали этап подобной «методологической раздробленности»: физика более 300 лет тому назад, химия – около 200, биология и науки о земле – около 100. Причем весьма характерным, по нашему мнению, является замечание В.М. Найдыша, сделанное им на страницах своего известного учебника, о существовании в истории биологии трех этапов, полностью аналогичных по своей сути последней приведенной нами классификации социогуманитарных теорий: описательной биологии (условно от Аристотеля до Ч. Дарвина), экспериментальной биологии (от генетики Г. Менделя и физиологии И.П. Павлова до открытия двойной спирали ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком) и теоретической биологии (простирающейся от середины 1950-х г. до наших дней) [10]. Социогуманитарное теоретическое знание явно стремится повторить путь, пройденный когда-то естествознанием: от пассивного по большей части сбора фактического материала к формированию целенаправленного экспериментального метода познания реальности. Только при выполнении этого условия возможно развитие полноценной теории, ведь ее первоначальная функция – объяснение результатов экспериментов. Теоретическое знание должно «вызреть» в этих условиях, лишь тогда раскрывается его эвристический потенциал – способность указывать экспериментатору, куда и на что направлять усилия.
В любой естественной науке теория проходит этот путь, поэтому в основании каждой современной естественнонаучной теории лежит одна и та же принципиальная схема, позволяющая объединить функции объяснения, систематизации, взаимодействия с эмпирией и предсказания новых феноменов. Речь идет об известной схеме типа «центр – периферия», впервые описанная еще И. Лакатосом [4], а в нашей стране – В.С. Степиным [14]. Эту же схему пытается положить в основу методологического анализа социально-гуманитарного теоретического знания и А.В. Юревич.
К центральным компонентам теории в социогуманитарном знании относятся 1) общий образ реальности; 2) центральная категория; 3) центральный феномен; 4) набор основных понятий; 5) система отношений между ними. В психологии общий образ реальности задается сквозь призму центральной категории (психика – это деятельность, психика – это трансформация образов, психика – это поведение, психика – это взаимодействие сознательного и бессознательного и т.п.) [15]. Центральный феномен может совпадать или не совпадать с центральной категорией, но в любом случае последняя задает его видение. Можно указать некоторый типичный путь, которым следует в своем становлении большинство психологических теорий. А.В. Юревич выделяет четыре этапа: 1) осознание важности некоторого психологического феномена; 2) формирование соответствующей категории; 3) оформление видения всей психологической реальности сквозь призму видения данной категории (по выражению автора цитируемой работы – «натягивание» данной категории на всю психологическую реальность); 4) вследствие неизбежного расширения предметной области теории происходит не менее неизбежное размывание связи с первоначальным феноменом и утрата ключевой категорией первоначально строгой предметной соотнесенности. Этим путем, например, когда-то прошла известная и популярная в прошлом среди психологов «теория деятельности», основы которой были заложены Л.С. Выготским, по иронии судьбы в свое время пророчески заметившим: «путь этот предопределен объективной потребностью и объяснительной потребностью в объяснительном принципе, и именно потому, что такой прин- цип нужен и его нет, отдельные части принципа занимают его место» [1, c. 309]. Таким образом, как отмечает А.В. Юревич, центральная категория теории, ее центральный феномен и образ изучаемой реальности при попытке их объединения в единую систему, могут вступать в противоречия друг с другом [15]. Обострения этих противоречий ведут к исчерпанию эвристического потенциала теорий и их постепенному «отмиранию».
Основные понятия теории всегда не только подчинены ее центральной категории, но и организованы в некое подобие иерархической структуры. Эти структуры сливаются в «сетку отношений» между основными понятиями, но, в отличие от естественнонаучных теорий, отношения между ними редко фиксируются в четких определениях. Базовые утверждения социально-гуманитарных теорий, как правило, также эксплицируются с трудом, однако возможны исключения, если основные принципы теории организованы в стройную систему немногочисленных постулатов. Тем не менее чаще всего и психологические, и прочие социально-гуманитарные теории формулируются в «аморфном» виде, что делает трактовку их постулатов неоднозначной.
Периферическая область теорий подразделяется на две подобласти: 1) собственно теоретическую и 2) эмпирическую. Теоретический компонент включает вспомогательные утверждения теории и систему их аргументации, эмпирический – подкрепляющий теорию эмпирический или обыденный опыт, которого, в силу упоминавшейся нами методологической незрелости теоретического знания в гуманитарных науках, в обосновании теорий может быть довольно много. Если центр теории в социально-гуманитарных науках соотносим с фундаментальной теоретической схемой естественнонаучных теорий (по В.С. Степину), то по отношению к вспомогательным утверждениям напрашивается аналогия с частными теоретическими схемами. Их задача – перейти от анализа общих характеристик реальности к решению частных задач, от рассмотрения фундаментальных законов – к конкретным типам взаимодействия. Здесь, как и в центральной области, проявляется все та же специфика гуманитарного знания – «аморфность» дедуктивной структуры. Отсутствие четких формулировок исходных принципов делает очень затруднительной, а то и невозможной полноценную дедукцию вспомогательных утверждений по правилам логики. В связи с этим, как отмечает А.В. Юревич, место логической дедукции занимает терминологическая, которая объединяет утверждения общей терминологией, а не содержанием (Там же).
Что касается эмпирической области, она по своей роли соответствует аналогичной области в естественных науках, но в гуманитарном знании она гораздо богаче и ее взаимоотношения с ядром теории более разноплановые. Исходя из этого, автор концепции делит данную область еще на две части («свою» и «чужую» для теории эмпирию), вводя тем самым новшество, которое не имеет прямых аналогов среди естественнонаучных теорий. Дихотомию можно продолжать и далее: «свою» эмпирию разделить на базовые наблюдения, на которых «покоятся» постулаты самой теории (опорная эмпирия), и наблюдения, выполненные с учетом концепции, формулируемой на основе выводов теории (надстроечная часть). К области «чужой» эмпирии относятся феномены и результаты эмпирических наблюдений, выявленные и полученные на базе других концепций. Она также может быть дихотомирована на релевантную и иррелевантную (по терминологии А.В. Юревича) составные части. «Линия водораздела» между этими двумя уровнями проводится по признаку «касается или не касается чужая эмпирия предметной области данной теории».
Структуру типа «центр – периферия» дополняет весьма развитый массив «неявного знания» (в духе М. Полани). Здесь заключается еще одно отличие от естественнонаучных теорий, в которых, по мнению Юревича, это знание развито в гораздо меньшей степени. В структуре социально-гуманитарных теорий помимо описанного Полани «личностного» знания присутствует также весьма значительный массив «группового» знания. Поскольку, как известно, неявное знание неформализуемо и порой даже невербализуемо, то, как представляется нам, членение его на индивидуальную и групповую части навеяно парадигмами Т. Куна, которые сами во многом олицетворяют это самое неявное знание.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что ситуация в гуманитарном знании исключает появление в обозримом будущем глобальных гуманитарных научно-исследовательских программ (в духе И. Лакатоса), аналогичных естественнонаучным. Однако уже сейчас можно выявить общую для естественных и гуманитарных наук тенденцию преодоления, с одной стороны, классических двузначных логических конструкций в формулировке законов, а с другой – классического научного идеала (детерминизма, причинности и «субъект-объектных» отношений). Можно констатировать различие в структурах теоретического знания в естественных и социально-гуманитарных науках по ряду ключевых пунктов:
-
1) нечеткость и неоформленность основных структур, составляющих фундаментальную теоретическую схему теории (абстрактных объектов, системных связей между ними);
-
2) наличие характерной для гуманитарных наук тесной связи между центральной категорией и центральным феноменом, ведущей к искажениям отражения реальности теорией;
-
3) чрезмерно «раздутая» периферическая область гуманитарных теорий по сравнению с естественнонаучными как одно из следствий отсутствия единой методологии гуманитарного знания;
-
4) значительно больший удельный вес неявного знания в гуманитарных теориях по сравнению с естественнонаучными;
-
5) недостаточная формализация теорий в гуманитарных науках и как следствие – явная тенденция к замене базовых форм логического вывода (силлогизмов, индукции) их «ценностными» эквивалентами («практический силлогизм» фон Вригта).
Тем не менее, можно также констатировать сходство теорий в естественнонаучном и социальногуманитарном знании в следующих аспектах:
-
1) сходство предпосылок и генезиса научных теорий в естественных и гуманитарных науках;
-
2) наличие общих инвариантных структур теорий (центральные периферические и неявные компоненты);
-
3) стремление к доказательности и объективности теоретического знания;
-
4) стремление использовать логику в формулировании выводов теорий;
-
5) важная роль ценностных ориентаций в генезисе теоретического знания;
-
6) тяготение к экспериментальным методам изучения действительности.
На основании отмеченного можно сделать вывод, что в структуре гуманитарной теории присутствуют все те же конструкции, что и в естественнонаучной теории, но «замаскированные» и искаженные саморефлексией познающего субъекта (познание означает «исчерпание» объекта, но сознание не может «исчерпать» само себя). Акцентирование ценностной составляющей ведет к тому, что объективное содержание теории оказывается скрытым, что и порождает убеждение в уникальности предмета гуманитарных наук.
Разрешить противоречие между «номотетическими» и «идиографическими» (по Г. Риккерту) науками, на наш взгляд, позволяет дуалистический подход. Его основная идея – рассмотрение истины и ценностей в структуре теории как противоположных начал, но связанных между собой отношением дополнительности (комплементарности). Дуальная структура предполагает неразрывное единство истины и ценностей, но допускает предельные случаи, когда преобладает объективное содержание (естествознание) или субъективное (гуманитаристика). Последовательное использование данного подхода позволяет вести исследование естественнонаучных и социально-гуманитарных теорий едиными средствами, что, несомненно, способствует прогрессу в области методологии гуманитарных наук.
Список литературы К вопросу о структуре теоретического знания в социально-гуманитарных науках
- Выготский Л.С. Собрание сочинений. М., 1982. Т. 1.
- Ивин А.А., Никифоров А.Л. Теория//Словарь по логике. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
- Илларионов С.В. Принцип ограничений в физике и его связь с принципом соответствия//Вопр. философии. 1964. №3. С. 96 -105.
- Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
- Ларсен С. Введение//Теория и методы в современной политической науке/под ред. С. Ларсена; пер. с англ. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2009. C. 11-52.
- Ларсен С. Введение//Теория и методы в социальных науках/под ред. С. Ларсена; пер. с англ. М.: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет); Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2004. C. 7-18.
- Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. Нелинейная динамика и проблемы прогноза//Вестн. РАН. 2001. Т. 71. № 3. С. 210-232.
- Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы/пер с англ. М. -Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004.
- Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах/пер с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006.
- Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник. М., 2002.
- Поппер К. Нищета историцизма//Вопр. философии. 1992. № 8 -10.
- Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
- Сноу Ч.П. Две культуры. М., 1974.
- Степин В.С. Теоретическое знание: структура и историческая эволюция. М., 1999.
- Юревич А.В. Структура теорий в социогуманитарных науках//Наука глазами гуманитария/отв. ред. В.А. Лектор-ский. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 202 -228.
- Taylor C. Philosophical Papers. Cambridge, 1985. Vol. 2.