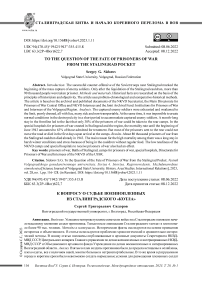К вопросу о судьбе военнопленных из сталинградского «котла»
Автор: Сидоров Сергей Григорьевич
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Сталинградская битва и начало коренного перелома в великой отечественной войне
Статья в выпуске: 1 т.28, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Успешное контрнаступление советских войск под Сталинградом положило начало массовому пленению солдат противника. Только после ликвидации Сталинградского «котла» в плен попало более 90 тыс. человек. Методы и материалы. Исторические факты исследуются на основе принципов историзма и объективности. В статье используются проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы. В основу статьи положены опубликованные и архивные документы Секретариата НКВД-МВД СССР, Центрального аппарата Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР и Объединенного архивного фонда Учреждения по делам военнопленных и интернированных Волгоградской области. Анализ. Взятые в плен солдаты противника были до предела истощены и ослаблены, плохо одеты, все с наличием вшей, многие больные и нетранспортабельные. В то же время в разрушенном городе в короткие сроки было невозможно создать нормальные условия для размещения плененных солдат противника. Месячное пребывание в прифронтовой полосе привело к тому, что в тыловые лагеря удалось вывезти только 30 % военнопленных. В созданных в Сталинграде и области спецгоспиталях для военнопленных смертность до начала июня 1943 г. составила 63 % от числа поступивших на излечение. Однако и большинство из отправленных в тыл пленных не смогли перенести дорогу или умерли в первые дни по прибытию в лагеря. Результаты. Около 80 тыс. военнопленных из Сталинградского «котла» умерли уже в 1943 году. Основной причиной высокой смертности среди них стало длительное пребывание в суровых условиях зимы и стресса в окружении при отсутствии регулярного питания. Сказалась также низкая готовность лагерей НКВД и спецгоспиталей к приему военнопленных.
Военнопленные, сталинградская битва, лагеря для военнопленных, спецгоспитали, упви нквд ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/149142336
IDR: 149142336 | УДК: 94(470.45)“1942/1943”:355.415.8 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2023.1.11
Текст научной статьи К вопросу о судьбе военнопленных из сталинградского «котла»
DOI:
Цитирование. Сидоров С. Г. К вопросу о судьбе военнопленных из сталинградского «котла» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 116–128. – DOI:
Введение. Успешное контрнаступление советских войск в ходе Сталинградской битвы положило начало массовому пленению вражеских солдат. Если с начала войны до ноября 1942 г. приемные пункты НКВД СССР приняли от частей Красной армии менее 20 тыс. военнопленных, то в ноябре – декабре 1942 г. уже более 70 тыс., а в январе – феврале 1943 г. еще свыше 150 тыс. чел. [17, с. 152].
Наибольшее количество военнопленных поступило в феврале 1943 г. после капитуляции окруженных войск 6-й армии Ф. Паулюса в Сталинграде и прилегающих районах.
Командование Донского фронта, не желая напрасных жертв, 8 января предъявило руководству окруженной группировки ультиматум с требованием капитуляции, который был отвергнут. Начавшиеся 10 января трехнедельные интенсивные боевые действия привели к гибели большей части окруженных войск. Каждый третий попал в плен.
Методы и материалы. Исторические факты исследуются на основе принципов историзма и объективности. В статье используются проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы, позволяющие проследить судьбу военнопленных из Сталинградского котла с момента пленения и нахождения во фронтовых подразделениях НКВД до вывоза в офицерские и производственные лагеря, определить продолжительность нахождения последних в тыловых подразделениях, рассмотреть итоги работы созданных спец-госпиталей для военнопленных в Сталинградской области в первой половине 1943 года.
Ранее отдельные вопросы исследуемой в статье проблемы затрагивались в обобщаю- щих монографиях по истории военного плена в СССР отечественными и зарубежными историками М.Т. Джусти, А.Л. Кузьминых, С. Кар-нером, С.Г. Сидоровым [5; 14; 30; 34], а также в исследованиях В.П. Галицкого, А.Е. Епифанова, С.Г. Сидорова и А. Хильгера, посвященным положению военнопленных в Сталинграде и Сталинградской области [4; 10; 29; 33]. Авторы приводят сведения о причинах и масштабах смертности военнопленных из сталинградского котла в первые месяцы пребывания их в плену до вывоза в тыловые районы страны. В то же время в названных работах недостаточно внимания уделено работе сталинградских спецгоспиталей и организации лечения в них, не отражена участь военнопленных, вывезенных из Сталинграда в тыловые лагеря.
В основу статьи легли документы Секретариата НКВД-МВД СССР – Ф. Р-9401, находящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, Центрального аппарата Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР – Ф. 1п, Объединенного архивного фонда Учреждения по делам военнопленных и интернированных Волгоградской области – Ф. 47п, находящиеся в Российском государственном военном архиве, опубликованные в многотомном сборнике документов и материалов «Военнопленные в СССР. 1939–1956». Многие из находящихся в сборнике документов, раскрывающих работу сталинградских спецгоспиталей, судьбу военнопленных, вывезенных в тыловые лагеря, не стали предметом исследования историков [1; 6; 8; 11; 12; 13; 21]. Вместе с тем в статье в научный оборот вводятся новые документы из названных архивов [2; 18;
19; 26; 31; 32], позволяющие проанализировать состояние сталинградских лагерей, динамику изменения численности военнопленных в 1943 г. и ряд других вопросов.
Анализ. Предвидя поступление большого числа военнопленных, 26 января 1943 г. заместитель командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенант И.Г. Советников приказал начальнику тыла 64-й армии немедленно организовать в Сталинграде в районе поселка Бекетовка лагерь для военнопленных со сроком его оборудования и обеспечения продовольствием к 31 января. Всех военнопленных, захваченных войсками 64-й и 57-й армий, предписывалось содержать во вновь организуемом лагере [7, л. 10]. Выполнить это распоряжение в условиях разрушенного Сталинграда в короткий срок не удалось. Вся тяжесть в разрешении вопросов размещения и обустройства военнопленных легла на фронтовые органы Управления по делам военнопленных и интернированных (далее – УПВИ) НКВД СССР [11, с. 74].
3 февраля 1943 г. заместитель наркома внутренних дел И.А. Серов отдал распоряжение представителям УПВИ НКВД Н.Н. Смирнову и С.М. Шустину организовать в районе Сталинграда необходимое количество лагерей-распределителей [7, л. 10]. Число взятых в плен солдат противника быстро росло. Если до этого дня Сталинградские подразделения УПВИ приняли от частей Красной армии 35 тыс. военнопленных, то к концу следующего уже 76 тыс. чел. [17, с. 152]. Для размещения взятых в плен солдат противника НКВД на территории Сталинграда и прилегающих районов области развернул 13 лагерей-распределителей, для руководства которыми 8 февраля приказом наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии было создано Управление Бекетовского лагеря № 108 во главе с капитаном госбезопасности Н.Н. Смирновым. Начальнику УПВИ НКВД СССР майору госбезопасности П.К. Сопруненко поручалось немедленно направить в Сталинград для укомплектования аппаратов лагерей для военнопленных 240 административных работников. Управлению лагеря выделялось 10 грузовых автомашин, 50 оперативных работников и необходимое количество войск для охраны и конвоирования военнопленных [23, с. 68–69].
Одновременно с приказом в тот же день Л.П. Берия утвердил предложения руководства НКВД СССР о порядке размещения военнопленных, сосредоточенных в районе Донского фронта. Из 82 тыс. военнопленных, размещенных в бараках и землянках в неорганизованном виде, предлагалось:
– 20–25 тыс. оставить в Сталинграде для использования на восстановительных работах в соответствии с просьбой секретаря Сталинградского обкома ВКП(б) А.С. Чуянова;
-
– по 20 тыс. вывезти в Узбекскую ССР для использования на Фархадстрое на строительстве гидроэлектростанции и в Казахскую ССР для работы на хлопковых полях совхоза «Пахта-Арал» в Чимкентской области;
-
– 10 тыс. направить в Урюпинский лагерь НКВД для военнопленных;
-
– по 5 тыс. вывезти в г. Уральск для использования на строительстве трубопровода Гурьев – Куйбышев и в Астраханский лагерь ГУЛАГа НКВД СССР.
Вывоз военнопленных из Сталинграда поручалось осуществить только по окончании воинских перевозок [22, с. 67–68].
Между тем численность контингента Бекетовского лагеря продолжала расти. По состоянию на 15 февраля 1943 г. в лагере № 108 находилось уже более 92 тыс. взятых в плен солдат противника, в том числе 3 817 офицеров, расположенных в 16 пунктах Сталинграда и области (см. таблицу).
Военнопленные в созданных на скорую руку лагерях без ограждений размещались в разбитых, неприспособленных для жилья помещениях, в подвалах разрушенного города, где отсутствовали пищеблоки. Вблизи лагерных пунктов не было воды, ощущался недостаток в охране и работниках этих лагерей [7, л. 12].
Дополнительные трудности были связаны с тем, что контингент военнопленных, поступавший из окруженной группировки, был до предела истощен и ослаблен, плохо одет, поголовно с наличием вшей.
О тяжелом физическом состоянии военнопленных свидетельствовали показания немецких врачей и солдат, взятых в плен. Как следует из их показаний, в ноябре – декабре 1942 г. суточный рацион немецкого солдата не превышал 200–300 г хлеба и 100–150 г конского мяса. С 10 января 1943 г. регулярное снабжение войск продовольствием было прекращено и носило случайный характер [2, л. 10].
По официальным показаниям генерала-квартирмейстера 6-й германской армии генерал-майора Кучинского, солдатский рацион в период окружения под Сталинградом менялся трижды. При минимальной суточной норме в 2 000 калорий калорийность солдатского пайка в период с 8 по 23 декабря 1942 г. составляла 1 467 калорий, с 24 декабря 1942 г. по 23 января 1943 г. – 694 калорий, с 25 января по 2 февраля 1943 г. – 228 калорий (только 120 г хлеба) [16, с. 395].
Среди взятых в плен оказалось много больных, обмороженных. Только в 4 пунктах Бекетовского лагеря, расположенных в Кировском районе Сталинграда (пос. Сталгрэс, Ле-собаза, з-д № 91, пос. Сакко и Ванцетти), немедленной госпитализации подлежало 8 696 чел., в том числе 2 775 сильно обмороженных, 1 969 хирургических больных [7, л. 13]. Однако госпитали для воинов Красной армии были переполнены, а первые семь спец-госпиталей для больных и раненых военнопленных открылись лишь к 7 февраля 1943 года.
-
8 февраля Л.П. Берия поручает своему заместителю И.А. Серову, находящемуся в Сталинграде, устранить наблюдающиеся пе-
- ребои в питании военнопленных и совместно с заместителем начальника военно-санитарного управления Красной армии Радгаузом принять необходимые меры к обеспечению госпитализации больных военнопленных [28, с. 69]. Вскоре открытые спецгоспитали будут подчинены созданному в Сталинграде местному эвакуационному пункту (далее – МЭП) военнопленных № 13.
1 марта 1943 г. Л.П. Берия подписал приказ № 00398 о вывозе из Сталинграда 78,5 тыс. военнопленных [24, с. 100–101]. Однако физическое состояние взятых в плен солдат противника не позволило выполнить данное решение. Согласно справке начальника УПВИ НКВД СССР И.А. Петрова в период с 6 марта по 1 апреля удалось вывезти только 27 295 чел., в том числе 24 717 рядовых и 2 578 офицеров. 10 500 рядовых были направлены в Покровский лагерь № 127 Саратовской области (Каменка – 5 000 чел., Красный Кут – 2 500 чел., Вольск – 3 000 чел.). 10 233 военнопленных были вывезены в Фархадский лагерь № 26 Узбекской ССР, 3 984 – в Пахта-Аральский лагерь № 29 Казахской ССР. Офицеров переместили в офицерские лагеря: Елабужский № 97 Татарской АССР (1 519 чел.), Красногорский № 27 Московской области (335 чел.),
Таблица. Дислокация пунктов размещения военнопленных управления Бекетовского лагеря НКВД № 108 по состоянию на 15 февраля 1943 г.
Table. Dislocation of places of accommodation of prisoners of war of the Beketovsky departmentNKVD Camp No. 108 as of February 15, 1943
|
Пункт размещения |
Военнопленных |
|
|
Всего |
Из них офицеров |
|
|
Поселок Сакко и Ванцетти |
4 690 |
1 437 |
|
Поселок завода № 91 |
15 220 |
– |
|
Поселок Лесобазы |
10 870 |
– |
|
Поселок Сталгрэс |
18 920 |
820 |
|
Дубовка |
16 090 |
566 |
|
Кисляки |
2 000 |
– |
|
Совхоз «Красноярский» |
4 800 |
100 |
|
Совхоз «Пролетарий» |
3 920 |
23 |
|
Паньшино |
2 000 |
– |
|
Заплавное |
250 |
– |
|
Фроловский лагерь № 50 |
5 400 |
400 |
|
Капустин Яр |
2 730 |
290 |
|
Большая Россошка |
880 |
35 |
|
Каменный Буерак |
1 750 |
16 |
|
Городище, Александровка |
1 300 |
130 |
|
Гумрак |
1 700 |
– |
|
Итого |
92 520 |
3 817 |
Примечание. Источник: [9, с. 71–72].
Оранский № 74 Горьковской области (526 чел.), Суздальский № 160 Ивановской области (198 чел.) [31, л. 18–19].
Вывоз военнопленных из Сталинграда продолжился и в первой половине апреля. Об этом свидетельствует оперативная справка о движении военнопленных из Сталинградского «котла», составленная работниками второго отдела УПВИ по состоянию на 15 апреля 1943 года. В документе отмечалось, что из 92 090 взятых в плен солдат противника удалось вывезти в другие лагеря 28 098 чел. (30,5 %). При этом число умерших с учетом госпитализированных непосредственно частями Красной армии составило 55 228 чел. (60 %), 6 чел. совершили побег, 889 чел. находились в лагере, 7 869 чел. состояло на излечении в спецгоспиталях (8,5 %) [19, л. 320–321].
К этому времени под началом МЭП № 13 в Сталинградской области действовало уже 15 госпитальных точек [6, с. 114]. С целью улучшения обслуживания больных и контроля над их лечением в апреле ряд точек был упразднен, а больные сконцентрированы в 6 укрупненных госпиталях. Два спецгоспиталя находились на территории Сталинграда (№ 4939 в пос. Бекетовка и № 4950/6 в 1-й Совбольнице) и четыре в области (№ 3249 в с. Рудня, № 4952 в г. Фролово, № 4937 в с. Капустин Яр, № 283 в г. Ду-бовка) [8, с. 110–113].
Во второй половине мая 1943 г. в 6 спец-госпиталях находилось 5 813 военнопленных, в том числе 1 772 здоровых, занятых обслуживанием госпиталей. По сравнению с серединой апреля количество военнопленных в лечебных учреждениях сократилось на 2 тыс. человек.
Более половины больных (2 358 чел.) проходило лечение в госпитале № 4939 в пос. Бекетовка. Медицинское обслуживание осуществляли 67 военнопленных врачей [6, с. 116]. Советских врачей в госпитале было всего 2, обслуживавших по 8 одноэтажных бараков, в каждом из которых находилось по 130– 140 человек. Санитарное состояние территории и госпиталя было неудовлетворительным. Жилые бараки не имели нар, больные располагались на полу без постельного белья и матрацев, окна не имели стекол. В палатах, в том числе и там, где размещались больные желудочно-кишечными заболеваниями, присутствовало много мух. Баки с питьевой водой имелись не во всех бараках и в недостаточном количестве, из-за отсутствия умывальников больные, особенно тяжелые, умывались нерегулярно [1, с. 118; 8, с. 110–111].
Госпиталь № 4950, дислоцированный на территории 1-й Совбольницы, обслуживал раненых и больных Красной армии. Одно из отделений госпиталя – шестое – было выделено для лечения военнопленных. В мае 1943 г. в нем состояло 796 больных, которых обслуживали 33 врача, 61 санитар и рабочая команда в составе 90 чел., все из числа военнопленных. В штате госпиталя был только 1 советский врач – начальник госпиталя, грузин по национальности. Истории болезней велись на немецком языке, поэтому начальник госпиталя, который его не знал, наблюдал за лечением больных формально. Медикаменты и мединструменты в госпитале были в основном трофейные. Воды в нужном количестве из-за отсутствия транспорта не хватало, умывальники отсутствовали [8, с. 112].
Медобслуживание и в остальных спец-госпиталях в основном проводилось медперсоналом из числа немецких военнопленных. Истории болезни не велись совсем. Медикаментами госпитали до лета 1943 г. пользовались трофейными, в последующем отечественными из склада МЭП № 13 [6, с. 116].
В спецгоспиталях наблюдалась высокая смертность, особенно в первые месяцы их работы. Общий процент смертности с начала организации госпиталей до начала июня 1943 г. составил 63 % от общего числа поступивших на излечение. Постепенно смертность снижалась. За период с 10 апреля по 5 июня во всех госпиталях умерло 3 874 военнопленных или 31 % проходивших лечение. При этом в марте смертность составляла 49 %, в апреле – 16 %, в мае – 6–7 % [6, с. 114–115].
Основной причиной смертности явилась тяжелая форма дистрофии у поступивших в госпитали больных вследствие длительного голодания во время окружения (42,1 % к числу лечившихся дистрофиков) [6, с. 115].
Дистрофия и авитаминозы, возникшие в период окружения, создали у некоторых групп больных такие глубокие и не обратимые органические изменения в жизненно важных орга- нах и системах, при которых даже полноценное питание и подвоз нужных витаминов не давал благоприятного исхода [1, с. 120].
Значительное число смертей имело место среди больных инфекционными заболеваниями с наличием дистрофии. Так, у больных дизентерией смертность составила 61 %, брюшным тифом – 47,9 %, сыпным тифом – 39,8 %, терапевтических – 32,1 %.
Высокому уровню смертности в феврале – марте также способствовало плохое санитарное состояние в госпиталях, чрезмерная скученность, размещение на полу, отсутствие нормального питания, недостаток воды, наличие вшей у всех больных, недостаточный контроль над работой немецких медицинских работников со стороны советских врачей. Выписка больных из госпиталей в марте – апреле почти не производилась. Лишь в конце апреля и в мае число выписанных больных после выздоровления становится заметным. Больше всего – 1 124 чел. – в это время было выписано из госпиталя № 4952 (г. Фролово), что составляло 37 % к общему числу лечившихся в госпитале больных [6, с. 115].
Увеличению количества выздоровевших военнопленных способствовали и новые нормы питания военнопленных, введенные приказом НКВД СССР в соответствии с постановлением ГКО от 5 апреля 1943 года. Установленное питание для больных дистрофией и для общегоспитальных больных, по сравнению с ранее действовавшими нормами, давали больше шансов на выздоровление. В них предусматривалась более высокая для больных норма хлеба, мяса, рыбы и других продуктов [25, с. 360–362].
17 мая 1943 г. на базе расформированных лагерей-распределителей и управления лагерей НКВД № 108 было сформировано под тем же номером управление Бекетовского лагеря НКВД производственного назначения, в котором к 1 июня находилось только 1 270 чел. [32, л. 59].
Перевозка военнопленных в марте 1943 г. в тыловые офицерские и производственные лагеря проходила в очень тяжелых условиях. Фактически ни один эшелон в это время не был оборудован печами и нарами, имелись перебои в питании, снабжении топливом для кухни. Наблюдалась массовая смертность в пути и в первые дни по прибытию в лагерь.
Покровский лагерь НКВД для военнопленных № 127 в Саратовской области, созданный 24 февраля 1943 г., находился ближе всех к Сталинграду. В него в период с 4 по 13 марта из Сталинграда поступило 3 эшелона военнопленных – 8 007 чел., из которых в пути умерло 1 526 человек. За время нахождения в лагере с 15 марта по 1 мая умерло еще 4 663 человека. Причинами смерти военнопленных были дистрофия (4 326 чел.), обморожения (162 чел.), сыпной тиф (54 чел.), ранения (23 чел.), другие причины (98 чел.). На 1 мая в живых осталось только 1 818 человек. По приказу НКВД СССР от 13 июля лагерь был ликвидирован, оставшиеся в живых военнопленные были собраны в одно отделение и переданы в состав Вольского лагеря № 137 Саратовской области [3, с. 148–149, 415; 34, S. 41]. О судьбе около 2,5 тыс. отправленных в лагерь № 127 взятых в плен солдат противника документы обнаружить не удалось. Можно предположить, что либо количество вывозимых в Саратовскую область пленных было завышено, либо их настигла смерть в пути или в лагере.
Содержание военнопленных, прибывших в Пахта-Аральский лагерь НКВД для военнопленных № 29, было неудовлетворительным. В канун 1944 г. начальник лагеря майор госбезопасности Духович был снят с работы и понижен в должности «как не обеспечивший проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий в лагере» [27, с. 459]. На 1 марта 1944 г. на сельскохозяйственных работах в хлопкосовхозе «Пахта-Арал» в лагере № 29 находилось только 2 851 военнопленных [20, л. 83].
Проблему функционирования учреждений для содержания военнопленных в Узбекистане затронул профессор В.П. Мотревич [15]. Однако военный период пребывания солдат противника на узбекской земле автор фактически обходит молчанием и дает неточную картину по истории Фархадского лагеря № 26. Между тем лагерь № 26 для военнопленных производственного назначения с лимитом в 20 тыс. чел., куда было направлено более 10 тыс. пленных из-под Сталинграда, просуществовал недолго. Неудовлетворительное состояние контингента лагеря, высокая смертность и нецелесообразность дальнейшего содержа- ния на строительстве ГЭС привели к появлению 13 мая 1943 г. приказа НКВД УзССР об организации Андижанского оздоровительного лагеря № 26 с лимитом в 2,5 тыс. чел. [12, с. 431]. Управление Фархадского лагеря по приказу НКВД СССР № 00873 от 22 мая передислоцировали на базу Избасканской трудовой детской колонии в с. Чуама Андижанской области в 30 км от железнодорожной станции Андижан, давшей новое название лагерю [3, с. 85; 12, с. 431; 26, л. 92]. Прибывшие из Фархадского лагеря оставшиеся в живых военнопленные все были поражены вшами и болели дистрофией. Вследствие проведенных оздоровительных и лечебных мероприятий работникам лагеря удалось добиться резкого снижения смертности. Если в первый месяц поступления военнопленных в оздоровительный лагерь смертность составляла 24,3 % контингента лагеря, то в июне она снизилась до 0,9 %, в декабре – до 0,1 %. Высокую смертность в Андижанском лагере № 26 в мае руководство МВД Узбекской ССР объясняло длительным нахождением солдат противника в окружении под Сталинградом, вследствие которого они были сплошь ослабленными, в тяжелом, а многие из них, в безнадежном состоянии [12, с. 432].
Участь военнопленных офицеров, вывезенных из Сталинграда, также была тяжелой. Рассмотрим это на примере более 2 тыс. офицеров, направленных в Елабужский № 97 и Оранский № 74 лагеря НКВД.
В Елабужский лагерь Татарской АССР военнопленные офицеры из окруженной сталинградской группировки начали поступать 16– 19 марта 1943 года. Первая партия в количестве 1 095 чел. прибыла из лагерных отделений № 10, 13 и 19 Бекетовского лагеря № 108 [21, с. 672]. В числе прибывших находилось 480 больных сыпным тифом и дифтерией. Остальные военнопленные были в инкубационном периоде заболевания сыпным тифом. У всех пленных имелись вши. Поступивший контингент разместили в зданиях бывшего монастыря, специально приспособленных под лагерь, и в лазарете при лагере. Штат санитарного отделения лагеря на день прибытия военнопленных состоял из 4 врачей и 6 работников среднего медицинского персонала.
Больные сыпным тифом и переболевшие им одновременно болели и дифтерией.
На борьбу с сыпным тифом и дифтерией был мобилизован весь личный состав лагеря. Медицинский персонал, занятый на борьбе с инфекцией, перевели на казарменное положение. Им в помощь мобилизовали 40 студентов 1-го и 2-го курсов Елабужской фельдшерско-акушерской школы. В ходе борьбы с инфекцией заразились и переболели гриппом и тифом три врача и три средних медработника. Ликвидация эпидемии сыпного тифа и дифтерии позволила лагерю с мая 1943 г. принимать новые партии военнопленных [21, с. 673]. Смертность в лагере в том году была самой высокой за всю его историю. Из 712 чел., умерших в лагере за период с 1943 по 1948 г., 435 чел. (61,1 %) умерло в 1943 г. [21, с. 674].
В Оранском лагере НКВД для военнопленных № 74 в начале марта 1943 г. содержалось 2 580 военнопленных [18, л. 155]. 23 марта в лагерь из приемно-пересыльного пункта № 108/10 Сталинграда прибыло 524 пленных. Из числа поступивших в лагерь 44 чел. находились в предагональном состоянии. В первые 5 дней умерли 35 чел. [13, с. 574]. В связи со значительным ростом контингента и поступлением в лагерь большого количества больных дистрофией, с обморожениями и легкими ранениями, в 1943 г. в лазарете было развернуто от 500 до 860 коек. Из 2 672 военнопленных, прошедших в том году через лазарет лагеря, больше всего составляли больные дистрофией (1 255 чел.), сыпным тифом (448 чел.), хирургические (285 чел.), с обморожениями (192 чел.) [13, с. 572]. Смертность в лагере в 1943 г. была самой высокой. Из 1 509 чел., умерших в лагере за период с 1941 по 1949 г., 1 202 чел. (79,7 %) умерли в 1943 г. [13, с. 574].
По подсчетам германских историков, занимающихся проблемой военного плена в СССР, из более 90 тыс. немецких солдат 6-й армии, капитулировавших в Сталинграде, домой в ходе послевоенной репатриации возвратились только 6 тыс. чел. [35, S. 178].
Результаты. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что подавляющая часть военнопленных из Сталинградского «котла» – около 80 тыс. чел. – умерла уже в 1943 году. Основной причиной высокой смертности взятых в плен солдат противника стал отказ командования окруженной группировки, выполнившей требования руководства Германии, сложить оружие в начале января 1943 года. Капитуляция могла спасти десятки тысяч человеческих жизней. Двухмесячное пребывание в суровых условиях зимы и стресса при отсутствии регулярного питания привело к истощению, глубоким органическим изменениям во всех органах и тканях, резко снизивших имунно-биологическое состояние и сопротивляемость организма. Это явилось причиной высокой заболеваемости и смертности от других болезней. Спасти таких людей в условиях низкой готовности лагерей-распределителей и спецгоспиталей к приему военнопленных, недостатках в организации размещения, питания и медицинского обслуживания во фронтовой полосе, тяжелых условиях транспортировки в тыловые районы страны после месячного пребывания в разрушенном Сталинграде было практически невозможно. Несмотря на это, руководством страны предпринимались меры по спасению взятых в плен солдат противника. Об этом свидетельствует и постепенное налаживание работы спецгоспиталей, в которых с каждым месяцем улучшались условия лечения больных, и произведенное весной 1943 г. повышение норм питания пленных, и принимаемые меры по налаживанию перевозки взятых в плен солдат противника в тыловые районы. Однако большинство из этих мер окажет влияние на судьбу тех военнопленных, которые поступят в руки НКВД СССР в ходе последующих сражений.
Список литературы К вопросу о судьбе военнопленных из сталинградского «котла»
- Акт совместной комиссии представителей МЭП № 13, Сталинградского мединститута, отделения по руководству лагерями для военнопленных УНКВД по Сталинградской области о результатах обследования постановки лечебной работы и обслуживания военнопленных в эвакогоспиталях 4939 и 4950 от 27 июня 1943 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Заго-рулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 118-120.
- Акты обследования лагерей военнопленных // Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1п. Оп. 34 а. Д. 3.
- Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 6. Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР. 1939-1956: док. и материалы / под ред. М. М. Заго-рулько. Волгоград: Издатель, 2013. 768 с.
- Галицкий В. П. Там, в Бекетовке, под Сталинградом // Военно-исторический журнал. 1993. № 2. С. 18-22.
- Джусти М. Т. Итальянские военнопленные в СССР, 1941-1954. СПб.: Алатейя, 2010. 272 с.
- Доклад начальника управления местного эвакуационного пункта 13 военврача 1 ранга Василькова о работе госпиталей, обслуживающих военнопленных за время с 10 апреля по 5 июня 1943 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 114-116.
- Доклад о работе лагеря МВД №9 108 за 19431950 гг. // РГВА. Ф. 47п. Оп. 22. Д. 1. Л. 9-122.
- Докладная записка начальника УНКВД по Сталинградской области полковника госбезопасности В.С. Прошина в НКВД СССР о состоянии спецгоспиталей для военнопленных, расположенных на территории области от 3 июня 1943 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 110-114.
- Донесение управления лагерей для военнопленных № 108 в УПВИ НКВД СССР о количестве военнопленных и состоянии лагерей по состоянию на 15 февраля 1943 г // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 71-72.
- Епифанов А. Е. Сталинградский плен, 19421956 годы (немецкие военнопленные в СССР). М.: Мемор. музей нем. антифашистов, 1999. 324 с.
- Из обзора ГУПВИ МВД СССР о работе фронтовых органов за 1942-1943 гг. Не ранее 1946 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 72-82.
- Итоговый доклад начальника 1 -го отделения ОПВИ МВД Узбекской ССР майора Смирнова о деятельности Андижанского оздоровительного лагеря № 26 за период с мая 1943 по апрель 1947 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 5. Кн. 2. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР. 1941-1951. Отчетно-информационные документы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2006. С. 431-435.
- Итоговый доклад начальника управления Оранского лагеря № 74 Горьковской области полковника В.А. Вержбицкого и его заместителя по политической части майора М.Г. Гореликова о деятельности лагеря за период с июня 1942 по 1 января 1950 г. // Военнопленные в СССР 1939-1956. Документы и материалы. В 6 т. Т. 5. Кн. 1: Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР 1941-1951: отчет.-информ. док. / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2005. С. 564-597.
- Кузьминых А. Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы). Вологда: Древности Севера, 2016. 527 с.
- Мотревич В. П. Учреждения для содержания военнопленных и интернированных в Узбекистане в 1943-1949 гг. (численность и дислокация) // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». URL: http:// electronic.razh.org/?q=m/system/files/%D0%9C% D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0 %B8%D1%87%20%D0%92.%D0%9F..pdf
- Обзор деятельности ГУПВИ МВД СССР по медико-санитарному обеспечению военнопленных и деятельности медицинской службы за период 1941-1950 гг. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 4. Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР 19411952: отчет.-информ. док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2004. С. 387-437.
- Обзор деятельности фронтовых органов ГУПВИ НКВД СССР в период Великой Отечественной войны // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 4. Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. 19411952: отчет.-информ. док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2004. С. 139-181.
- Оперативная справка о наличии военнопленных в стационарных и производственных лагерях НКВД на 2 марта 1943 г. // РГВА. Ф. 1п. Оп. 01е. Д. 9. Л. 155-156.
- Оперативная справка о движении военнопленных Сталинградских приемных пунктов на 15 апреля 1943 г. // РГВА. Ф. 1п. Оп. 01е. Д. 9. Л. 320-321.
- Отчетные материалы о работе УПВИ-ГУПВИ за 1941-1949 гг. // РГВА. Ф. 1п. Оп. 23а. Д. 2. Л. 1-222.
- Очерки истории Елабужского лагеря N° 97 Татарской АССР, составленный врид начальника управления лагеря капитаном Константиновым и врио зам. начальника лагеря по политчасти майором Н.Н. Голубевым за период с декабря 1942 по июль 1948 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы. В 6 т. Т. 5. Кн. 1: Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД СССР 1941-1951: отчет.-информ. / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2005. С. 671-680.
- Предложения руководства НКВД СССР о порядке размещения по лагерям военнопленных, сосредоточенных в районе Донского и Воронежского фронтов // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 67-68.
- Приказ НКВД СССР № 00251 «Об организации Сталинградского управления лагерей для военнопленных» от 8 февраля 1943 г // Военнопленные в СССР. 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М.Заго-рулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 68-69.
- Приказ НКВД СССР № 00398 о вывозе военнопленных их лагерей и приемных пунктов прифронтовой полосы // Военнопленные в СССР. 19391956. Документы и материалы / под ред. М. М. Загорулько. М.: Логос, 2000. С. 100-101.
- Приказ НКВД СССР № 00683 об изменении норм продовольственного снабжения для военнопленных от 9/10 апреля 1943 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы / под ред. М. М. Загорулько. М.: Логос, 2000. С. 358-363.
- Приказ НКВД СССР № 00873 «О передислокации Фархадского лагеря НКВД для военнопленных № 26» от 22 мая 1943 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 135. Л. 92.
- Приказ НКВД СССР № 001860 о снятии с работы начальника Пахта-Аральского лагеря НКВД для военнопленных № 29 майора госбезопасности Духовича от 30/31 декабря 1943 г. // Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы / под ред. М. М. Загорулько. М.: Логос, 2000. С. 459.
- Распоряжение Л.П. Берии руководству УНКВД по Сталинградской области о принятии необходимых мер по устранению перебоев с питанием военнопленных и обеспечению госпитализации больных. 8 февраля 1943 г // Военнопленные в СССР 1939-1956. В 6 т. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943-1954: док. и материалы / под ред. М. М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. С. 69-70.
- Сидоров С. Г. В далеком 1943: к вопросу о судьбе военнопленных в СССР // Сарепта и народы Поволжья в истории России. Волгоград: [б. и.], 1998. С. 10-19.
- Сидоров С. Г. Труд военнопленных в СССР. 1939-1956. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 508 с.
- Справка за подписью начальника УПВИ НКВД СССР И.А. Петрова о вывозе военнопленных из районов Сталинграда и действий Воронежского и Юго-Западного фронтов за период 6 марта по 1 апреля 1943 г. // РГВА. Ф. 1п. Оп. 9е. Д. 1. Л. 18-19.
- Справка УПВИ НКВД СССР о численности военнопленных и спецконтингента, содержащихся в лагерях НКВД на 1 июня 1943 г. // РГВА. Ф. 1п. Оп. 1и. Д. 9. Л. 59.
- Hilger Andreas. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941-1956: Kriegsgefangenenpolitik, Lageralltag und Errinerung. Essen: Klartext-Verl., 2000. 486 S.
- Karner Stefan. Im Archipel GUPVI: Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941-1956. Wien; München: Oldenbourg, 1995. 269 S.
- Lehmann A. Erinnerungen an die Kriedsgefangenschaft // Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht / hrsg. von W. Wette, G. R. Ueberschar. Frankfurt am Main: [s. n.], 1992. S. 178-189.