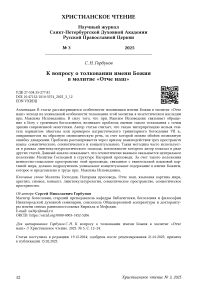К вопросу о толковании имени Божия в молитве «Отче наш»
Автор: Горбунов С.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности номинации имени Божия в молитве «Отче наш» исходя из уникальной особенности толкования этой молитвы в экзегетическом наследии прп. Максима Исповедника. В силу того, что прп. Максим Исповедник связывает обращение к Богу с троичным богословием, возникает проблема оценки такого толкования с точки зрения современной экзегетики. Автор статьи считает, что такую интерпретацию нельзя считать вариантом эйсегезы или примером патристического тринитарного богословия VII в., опирающегося на образную символическую речь, за счет которой можно обойти возможную ошибку диахронии. Проблема рассматривается через призму взаимодействия трех пространств языка: семантического, семиотического и концептуального. Такая методика часто используется в рамках лингвокультурологического подхода, возможности которого автор показал в ряде других статей. Данный анализ показывает, что семиотически важным оказывается центральное положение Молитвы Господней в структуре Нагорной проповеди. За счет такого положения ценностносмысловое пространство этой проповеди, связанное с евангельской языковой картиной мира, должно подразумевать уникальное концептуальное содержание в имени Божием, которое и представлено в труде прп. Максима Исповедника.
Молитва Господня, Нагорная проповедь, Отче наш, языковая картина мира, архетип, символ, концепт, лингвокультурология, семантическое пространство, семиотическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/140312288
IDR: 140312288 | УДК: 27-534.35-277:81 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_12
Текст научной статьи К вопросу о толковании имени Божия в молитве «Отче наш»
Исходным пунктом представляемого рассуждения будет вопрос о способе номинации имени Божия в Молитве Господней. При этом мы исходим из достаточно редкого типа толкования, которое содержится в экзегетическом наследии прп. Максима Исповедника. В книге «О Молитве Господней» прп. Максим Исповедник объясняет, что эта молитва содержит учение о Святой Троице: «В этих словах Господь учит молящихся, что молитву подобает начинать сразу с богословия, а также посвящает их в таинство образа существования Творческой Причины всего сущего, будучи Сам по сущности этой Причиной. Ибо слова Молитвы являют нам Отца, Имя Отца и Царство Его, чтобы мы с самого начала Молитвы научились чтить единую Троицу, призывать Ее и поклоняться Ей. Ибо Имя Бога Отца, пребывающее сущностным образом, есть Единородный Сын Его. А Царство Бога Отца, также пребывающее сущностным образом, есть Дух Святой» (Максим Исповедник, 2014, 257).
Несмотря на необычность данного толкования для современной экзегетики, проф. А. И. Сидоров поясняет, что отождествление «имени» с Сыном было широко распространено в христианской литературе начиная с комментариев Оригена (см.: [Сидоров, 2014, 425]). В традиции отождествления «царства» со Святым Духом, по мнению профессора, прп. Максим следует экзегезе свт. Григория Нисского (см.: [Сидоров, 2014, 425]). В своем комментарии прп. Максим приводит фразу «Да приидет Дух Твой Святый, и да очистит нас», которая стоит вместо традиционных слов «Да приидет Царствие Твое» (Максим Исповедник, 2014, 257). А. И. Сидоров показывает, что о данном разночтении хорошо известно в современной текстологии. Так, в издании Нестле-Аланда отмечается, что манускрипт с таким чтением был известен свт. Григорию Нисскому и, предположительно, Тертуллиану. Из полемики Тертуллиана можно предположить, что вышеуказанные слова были и в тексте Евангелия гностика Мар-киона (см.: (Тертуллиан, 2010, 290)). Как видно из текста, Тертуллиан, обличая Маркио-на, не оспаривает приведенные слова из Молитвы Господней. Примечательно, что унциальная греческая рукопись № 0162, имеющая вышеуказанное чтение, в каталоге Курта Аланда датируется III–IV в. [Aland, 1989, 57] и относится к 1-й категории [Aland, 1989, 123], т. е. имеет важное значение для текстологии.
На основании изложенного следует, что вопрос об экзегетической морфологии имени Божия в молитве «Отче наш» затрагивает проблему изучения языковой формы тринитарного богословия в апостольский век. В исследовании анализируется возможность подведения под представленное толкование определенной лингвистической базы, а также показывается актуальность достижений теоретической лингвистики в поле современных библейских исследований. Кроме того, материал статьи демонстрирует еще один пример практической реализации идеи о возможности введения нелингвистического экзегетического материала в широкий филологический контекст (см.: [Горбунов, 2022, 111]).
Знакомство с толкованиями на молитву «Отче наш», как древними, так и современными, показывает, что представленные в них экзегетические подходы во многом тождественны. Их типология сводится к общему исходному принципу: молитве «Отче наш» присваивается статус полноценного богословского текста, номинативные единицы которого должны раскрыть определенное богословское содержание. В данном случае понятие «текст» приводится как лингвистический термин. Однако и на уровне здравого рассуждения нет проблемы с пониманием определенной автономности существования этой молитвы в контексте содержания всей Нагорной проповеди, которая также классифицируется современными экзегетами как «цельная, законченная и четко структурированная композиция» [Иларион Алфеев, 2016, 195]. Используя лингвистическую терминологию, можно сказать, что молитва «Отче наш» в составе Нагорной проповеди функционирует как «текст в тексте» [Лотман, 2010, 66], что, несомненно, повышает градус научного интереса к ее анализу.
Современные толкователи, описывая самобытность и значимость Молитвы Господней, уделяют пристальное внимание историко-культурному контексту, в котором она была произнесена. Для современных исследований это актуальный методологический этап в парадигме историко-филологического метода. Однако, занимаясь описанием историко-культурного контекста, необходимо учитывать конфессиональную и мировоззренческую предрасположенность толкователей. Так, подавляющее большинство западных библеистов базирует свои идеи на «гипотезе двух источников» [Луц, 2014, 10]. Это позволяет в сравнительно-сопоставительном анализе доказывать рецепцию Молитвы Господней из раннего источника. При этом гипотеза о Q-евангелии как первоисточнике вынуждает относить время написания Евангелия от Матфея на более позднее время и, таким образом, отдалять священный текст от того самого историкокультурного контекста, который необходим для сбалансированного экзегетического исследования. Насколько современные западные библеисты убеждены в реальности данной гипотезы, видно из критики У. Луцем мнений «несогласных» авторов в отношении толкования Нагорной проповеди (см.: [Луц, 2014, 45–47]). Факт присутствия полноценного тринитарного богословия в евангельском тексте немыслим для протестантской школы. И хотя, в отличие от других современных библеистов, У. Луц упоминает вышеприведенное толкование прп. Максима Исповедника, для него оно ни о чем не говорит — прп. Максим Исповедник упоминается только в списке древних комментаторов.
Что касается отечественной библеистики, уместно привести мнение митр. Ила-риона (Алфеева), отметившего, что «источник Q — не более, чем фантом» [Иларион Алфеев, 2017a, 99]. В своем труде владыка говорит о двух тенденциях рассуждений относительно составления Нагорной проповеди (Мф 5-7), в состав которой помещена Молитва Господня. Первая тенденция представляет Нагорную проповедь как авторский комментарий ев. Матфея, который собрал и обработал речения Спасителя. При этом евангелист, в целях этического назидания христианской общины, подверг своей авторской обработке то содержание, которое фактически не соответствовало буквальным словам Иисуса (см.: [Иларион Алфеев, 2017б, 15]). Вторая тенденция связывается со святоотеческой традицией толкования: Нагорная проповедь является единым цельным текстом, адекватно передающим подлинные слова Спасителя. Данные тенденции имеют важное значение для методики нашего анализа, о чем подробнее будет сказано ниже.
Несмотря на существующие разногласия, в современной экзегетике складывается определенный консенсус относительно ряда содержательных аспектов молитвы «Отче наш». Одним из таких аспектов является уникальное положение молитвы в структуре Нагорной проповеди — она находится в центре повествования. При этом исследователи, опирающиеся на современные методы лингвистического анализа, обращают внимание на четкость содержательной структуры Нагорной проповеди и ее продуманную композицию (см.: [Иларион Алфеев, 2016, 195]), «великолепную литературную композицию» [Ианнуарий Ивлиев, 2020, 13], «архитектурную симметрию» [Луц, 2014, 40], «сложную и изысканную композицию» [Осипов, 2022, 18], «составную структуру» [Keener, 2009, 162] и т. п. С учетом того, что Молитва Господня находится в центре Нагорной проповеди, необходимо проанализировать взаимосвязь структурной композиции этой проповеди и содержательных аспектов самой молитвы «Отче наш». На наш взгляд, именно через эту взаимосвязь можно глубже проанализировать семантику дискурса молитвы и сделать выводы относительно поставленной нами задачи — выявить дополнительные экзегетические феномены в отношении способа номинации имени Божия.
Как видно из вышесказанного, одним из ключевых методологических терминов оказывается понятие «структура», которое в силу его специфики необходимо прояснить (см. об этом: [Шарафутдинова, 2008, 108]). Так, существует предубеждение относительно структурных лингвистических исследований. Действительно, структурная лингвистика в своем историческом аспекте считается неактуальной, ее время ушло: язык уже не рассматривается как простая система отношений. Критика положений структурной лингвистики — необходимое условие развития науки. Тем не менее, следует учитывать, что, во-первых, кроме слабых сторон в учении структуралистов существуют и сильные стороны. В учении основоположника структурной лингвистики Ф. де Соссюра это прежде всего положение о системном характере языка, классификация типов языковых отношений (ассоциативные, синтагматические), понятие о значении и значимости лингвистического знака и др. (см. подр.: [Шарафутдинова, 2008, 283]). Во-вторых, ряд лингвистических понятий структурной лингвистики используется в новых направлениях как некие подразумеваемые аксиомы: дихотомии «язык — речь», «социальное — индивидуальное», «означаемое — означающее» [Соссюр, 2011, 77]. Так, в работах классика отечественной лингвистики текста И. Р. Гальперина [Гальперин, 2008] реальные примеры анализа текста останутся непонятными, если исследователь не пройдет «школу структурализма».
Как известно, в лингвистике понятие структуры показывает, что целое состоит из элементов, причем отдельные элементы и части целого связаны строгой системой лингвистических правил и отношений. При анализе свойств отдельных частей углубляется понимание целого. Следует различать понятия «система» и «структура», хотя они часто и используются как синонимы (см.: [Шарафутдинова, 2008, 108]). В нашем случае мы определяем структуру как некую схему, по которой происходит внутренняя организация и взаимосвязь элементов целого — системы. Можно было бы и не обращать внимание на различие приведенных понятий, но авторы толкований действительно представляют структуру Нагорной проповеди в виде схем, имеющих разнообразную конфигурацию.
В настоящее время библеисты очень часто используют понятие структуры в риторическом и разновидностях литературного анализа (см., напр.: [Десницкий, 2011, 254]). Достаточно редко применяется анализ коммуникативной структуры в его лингвистическом понимании. В библеистике коммуникативная структура обычно подразумевается как прагматическая сторона риторического анализа. При этом библеисты практически не используют метод актуального членения предложения, который как раз и направлен на анализ коммуникативной структуры (см.: [Горбунов, 2022, 103]). В нашем случае речь идет о языковой структуре и как об онтологическом свойстве речевой деятельности, и как о факторе, формирующем соотношения знаков. Ю. М. Лотман, развивая идеи Ф. де Соссюра, пишет: «структура языка — результат человеческой деятельности, и именно деятельности интеллектуальной» [Лотман, 2010, 68]. Также он поясняет: «Языковая структура, имея целью систематизировать знаки кода и сделать их пригодными для передачи информации, вместе с тем копирует представления человека о существующих в объективном мире связях. Структура языка представляет собой итог познавательного акта огромного значения» [Лотман, 2010, 68]. Интересно, что в современных определениях когнитивной лингвистики понятие «концепт» также описывается как «базовая единица мыслительного кода человека, обладающая относительно упорядоченной внутренней структурой » [Попова, Стернин, 2010, 301].
Ю. М. Лотман, применявший свою теорию для анализа художественных произведений, подробно останавливается на том, что философский принцип «форма соответствует содержанию» часто недостаточно отражает отношение структуры и идеи. По его словам, «идея в искусстве — всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея бессмысленна». Это дает ученому основание заменить философское понимание дуализма формы и содержания концепцией «идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры» [Лотман, 2010, 87-88]. При этом ученый не осуждает «формалистическую структуру», которая чаще всего задействуется в задаче по передаче информации [Лотман, 2010, 88]. В данном случае он делает акцент на художественной структуре (см.: [Лотман, 2010, 87]), на которую логично ориентироваться при анализе библейского текста.
Теоретически наш подход базируется на понимании текста как суммы трех коммуникативных пространств: семантического, семиотического и концептуального, о чем подробно написано в ряде статей. Данные пространства обусловлены структурированностью языка на уровне семантики, семиотики и концептосферы (см. об этом: [Горбунов, 2021, 95]). Анализ взаимодействия данных пространств актуален для современных лингвокультурологических исследований и фактически связан с теорией описания языковой картины мира. Для понимания сути этого взаимодействия можно обратить внимание на интересную работу современного лингвиста Ю.Е. Прохорова [Прохоров, 2009], который не только объясняет сложную лингвистическую терминологию, но и на примере реальных текстов показывает сложности в процессе коммуникации, когда между коммуникантами нарушена тождественность элементов того или иного пространства.
Семантическое пространство представляет собой совокупность базовых понятий в элементах языковой картины мира, которая определяется национально-культурной спецификой конкретного этноса и представлена через призму ассоциативновербального компонента определенной языковой личности.
Семиотическое пространство — это система правил и норм понимания, оценки и организации человеческого бытия. Это пространство, как знаковая система, относится к бытийно сложившимся правилам, которые регулируют человеческое существование и которые специфически представлены в разных языках.
Лингвистическая теория семиотики восходит к работам Ч. С. Пирса, выделившего и описавшего несколько типов знаков: подобия, указатели, символы (см.: [Пирс, 2009, 89]). В теоретической науке высказывались различные мнения относительно продуктивности семиотического анализа в приложении к лингвистике. Известна точка зрения А. А. Леонтьева, который негативно относился к неоправданному внедрению идей Ч. Пирса и Э. Гуссерля в теоретическую лингвистику без должного уровня их осмысления. По его рассуждению, в ситуации, когда мы оказываемся живущими в мире знаков везде и всюду, семиотика превращается в «суррогат теории познания» [Леонтьев, 1969, 43]. Для себя выдающийся лингвист выбирает методологию описания семиотической системы в контексте социально-психологической деятельности человека, в русле идей, высказанных еще в трудах Л. С. Выготского (см.: [Леонтьев, 1969, 45]). Интересно, что рассуждение ученого о крайностях в анализе семиозиса лежит и в основе его критики модели речевого акта Р. О. Якобсона. Как известно, схема этой модели вошла в современные учебники по экзегетике (см.: [Десницкий, 2011, 39]). А. А. Леонтьев не разделяет мнения о смешении функций языка в силу цельности и нечленимости речевого акта и предлагает свою классификацию. Но, как показала практика, классификация Р. О. Якобсона оказалась более удобной и продуктивной для экзегетических исследований.
По нашему мнению, экзегетам следует обратить внимание на связь семиотического знака с «бытийно сложившимися правилами» (см. определение выше). Другими словами, семиотический анализ может быть достаточно продуктивным в поле историко-филологического метода. При этом, конечно, не стоит доходить до крайности и видеть «знаки» абсолютно во всех деталях библейского контекста.
Концептуальное пространство — совокупность исторически сложившихся базовых элементов организации человеческого бытия, обеспечивающая существование человека в реальном пространстве (см.: [Прохоров, 2009, 102]). Для текстов, отражающих религиозную культуру общества, концептуальное пространство будет связано с менталитетом и духовным опытом народа, и этот опыт будет репрезентирован концептами, обладающими сакральными смыслами (см.: [Маслова, 2011, 34]). Следует учесть, что отсутствие языкового знака для вербализации концепта не утверждает реальности присутствия или отсутствия концепта в сознании человека. Причины вербализации концепта обусловлены коммуникативной функцией языка, т.е. востребованностью концепта для обмена информацией между говорящими (см.: [Попова, Стернин, 2010, 301]). Взаимодействие семантического, семиотического и концептуального пространств должно обеспечить форму и содержание коммуникации.
По своей сути лингвокультурология является дальнейшим развитием методов исследования текста на основании подходов лингвистики текста (исследователи:
Г. В. Колшанский, И. Р. Гальперин, З. Я. Тураева, В. Е. Чернявская и др.), этнолингвистики (прежде всего, Н. И. Толстой) и когнитивной лингвистики (В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, В. В. Воробьев и др.). Уже в работах поздних структуралистов намечается тенденция продуктивно преобразовывать структурную модель исследования текста, т. к. стало очевидным, что текст обнаруживает дополнительные свойства, не сводимые к и не выводимые из свойств отдельных элементов. В данном случае критика структурного подхода вполне обоснованна (см.: [Леонтьев, 1969, 20]). Например, разработанная Ю. М. Лотманом структурно-семиотическая теория, которая оказывается методологически близкой к нашим теоретическим алгоритмам, является методом описания специфики культурного типа, который был использован для анализа русской культуры. Автор понимал культуру в самом широком смысле, и по этой причине данная теория рассматривает феномен человека и окружающий его мир во всей многоаспектности. Ю. М. Лотман вводит понятие семиосферы, чтобы не просто описать содержательный компонент текста, выраженный на линеарном уровне, но и ввести в данное семантическое поле компоненты семиотического описания. В дальнейшем, разрабатывая методологию анализа текста, лингвисты рассуждают о дискурсе как «тексте, погруженном в жизнь» [Филиппов, 2007, 70]. Очевидно, что тестирование новых лингвистических методик может расширить эвристический потенциал современной библеистики.
Изучая вопрос о расположении Молитвы Господней в центре структуры Нагорной проповеди, исследователи, как правило, используют структурно-описательный метод (см.: [Луц, 2014, 40]). В результате анализа структурно-содержательных компонентов выявляется определенная композиция с явным преобладанием симметрии. Выше была приведена точка зрения митр. Илариона (Алфеева), который скептически относится к тому, что Нагорная проповедь — сборник речений Спасителя в авторской интерпретации ев. Матфея. Тем не менее творческий потенциал евангелиста, судя по содержанию одной из статей, владыкой не отрицается. Слова о «первой публичной речи Иисуса Христа, по версии Матфея» [Иларион Алфеев, 2016, 195] показывают, что евангельский текст определенным образом маркируется личностью евангелиста. Очевидно, что данное рассуждение находится в полном соответствии с идеей бого-духновенности Священного Писания. Естественно, что вопрос о маркированности текста заставляет экзегета не только изучать общий историко-культурный фон эпохи, но и находить взаимосвязь подробностей из личной биографии автора и актуальных событий эпохи. Парадоксальным образом такой методологический прием приводит к базовым принципам структурного подхода: необходимости соотнести часть (личность) и целое (эпоха, этнос), подразумевая их взаимное влияние.
Существенным узловым моментом нашего анализа оказывается семитское мышление автора — ев. Матфея. Даже если Нагорная проповедь по своей структуре — подлинная речь Спасителя, то и здесь мы имеем признак маркированности текста семитским мышлением по причине иудейского происхождения Спасителя по человечеству. В таком случае логично предположить взаимосвязь семитского мышления и традиции построения письменного документа. Для семитской традиции именно письменное слово несет в себе ореол сакральности и таинственности. «Все буквы сакрального текста пересчитаны, и каждая может иметь таинственное значение» [Аверинцев, 1997, 200]. Если ев. Матфей и не считал свою запись евангельской истории Священным Писанием, тем не менее, его «семитский контекст» находил отражение в том содержании, которое он зафиксировал.
Когда комментаторы подходят к интерпретации идеи центра в структуре Нагорной проповеди, то практически все говорят, что структурный центр является ключом для понимания всего содержания проповеди. У. Луц пишет, что содержание Нагорной проповеди открывается только «при повторном прочтении, при весьма пристальном рассматривании». Это позволяет ученому сделать предположение о том, что Евангелие от Матфея — текст, предназначенный «в первую очередь не для слушания, а для чтения» [Луц, 2014, 40]. Поставленная в центр молитва «Отче наш» вносит в содержательную структуру этой проповеди симметрию, способствуя образованию кольцевой структуры (см.: [Луц, 2014, 41]). Анализ риторической структуры также связывает центральное положение и кульминационный момент содержания (см.: [Осипов, 2022, 280]). О внутренней симметрии и кольцевой композиции пишет и митр. Иларион (Алфеев), показывая, что такая структура внутренне связывает внешне различные тематические блоки. При этом в середине структуры находится молитва «Отче наш», «от которой в разные стороны, к началу и к концу текста, подобно концентрическим кругам, расходятся тематические блоки» [Илари-он Алфеев, 2016, 195].
Как видно, библеисты хорошо обозначили, что общая структурная композиция имеет признак литературной изысканности и помогает охватить цельность содержания Нагорной проповеди. Однако взаимосвязь центра с общим содержанием, по нашему мнению, выявлена ими недостаточно. Действительно, Молитва Господня, помещенная в центре проповеди, может соединяться с тематическими блоками в виде лучей, волн, колец и т. п. В таком случае получается, что центр выполняет более формальную функцию, чем содержательную. Если центр и указывает на содержание, то это — содержание не самой молитвы, а расходящихся в стороны тематических блоков. Неужели это — исчерпывающее объяснение?
Предлагаемая гипотеза, основанная на толковании прп. Максима Исповедника, сводится к тому, что помещенная в центр Нагорной проповеди молитва «Отче наш» не только является формальным центром, но и сообщает о важнейшем концепте, относящемся к Богу. Исходя из методологии анализа трех пространств языка, рассмотрим центр Нагорной проповеди как семиотический знак, функционирующий в контексте конкретной этническо-религиозной концептосферы. Как было отмечено, ев. Матфей передает содержание через призму семитского мышления. Аналогией для данного предположения может служить Пятикнижие Моисея. Книга Левит, помещенная в середину Торы, играет важнейшую роль в содержании всего текста (см. об этом: [Auld, 1996]). Это — Кодекс святости (см.: [Сливняк, 2024]). Бог говорит Израилю: «ибо Я — Господь ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят» (Лев 11:44), «Я — Господь» (Лев 19:12) и т.п. На семантическом уровне рефрен «Я — Господь» или «Я — Господь Бог ваш» (примечательно мн. число в слове «Бог ваш», «ПЗ’пЬк», как перспектива откровения Святой Троицы в Ветхом Завете) стилистически маркирован многократным повторением. При этом слово «Господь», именная часть сказуемого данных высказываний, в еврейском тексте передается через тетраграмматон «יהוה» (Яхвэ).
Определяя взаимосвязь центра Торы и главного содержания книги Левит, можно предположить, что автор Пятикнижия специально помещает в центр самое выдающееся откровение о Боге в Ветхом Завете. Центр оказывается сакральной точкой, если смотреть на Пятикнижие через призму формальной структуры, и — символическим знаком, если определять центр как элемент семиотического пространства. По классификации символического содержания «центр» должен в данном случае пониматься не как символ, а скорее как архетип (см. об этом: [Горбунов, 2016, 508]). Также можно констатировать, что понятие «центр» в сакральном смысле связано с мифологическим мышлением. О символике центра на примере древних памятников подробно рассуждает известный историк религии М. Элиаде (см.: [Элиаде, 1987, 33]), что служит дополнительным аргументом в пользу излагаемой гипотезы. Фактически речь идет о некотором архетипе человеческого сознания, который восходит к общечеловеческому концепту (см.: [Вежбицкая, 2011, 46]).
В силу обозначенной важности центра в структуре Нагорной проповеди необходимо определить концептуальную идею, обозначенную данным центром. Если в Ветхом Завете центр Торы содержит новую концептуальную информацию о Боге Израиля, которой не знал языческий мир, то естественно предположить, что новозаветное откровение связано с новым концептуальным знанием, относящимся уже к христианскому богословию. В таком случае толкования, затрагивающие только семантическое пространство языка, оказываются в определенной степени ограниченными. Фактически в них речь идет о раскрытии денотативного и коннотативного значения входящих в текст молитвы лексем на основе семасиологического подхода. Конечно, лексический анализ слова «Отец», употребленного в молитве и заимствованного из арамейского языка, позволяет выявить новую коннотацию в содержании отношений Бога и человека. Это действительно вносит новый интенсиональный признак в понятие о Боге. Такая экзегеза лежит в основе христианского учения о жертвенной любви. Но, в определенной степени, иудеи уже знали это откровение и пытались его осмыслить: «крепка, как смерть любовь» (Песн 8:6). Тем не менее, важнейшим в контексте новой концептуальной информации оказывается учение о Боге-Троице. Относительно Евангелия, которое заканчивается крещальным тринитарным благословением «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28:19), логичнее всего предположить, что его составитель, ев. Матфей, помещает молитву «Отче наш» в центр Нагорной проповеди именно с целью выразить новое концептуальное содержание посредством возможностей библейского языка. В противном случае содержание молитвы остается тождественным иудейскому мировоззрению и ничего нового в человеческое сознание не привносит. При таком подходе к толкованию центральное положение данной молитвы в Нагорной проповеди не передает той глубокой содержательной функции, о которой говорит прп. Максим Исповедник, и несет в себе признак формальности или даже случайности. Другими словами, в экзегезе прп. Максима Исповедника мы видим не ошибку диахронии или пример эйсегезы (привнесения в евангельский текст каппадокийского богословия с целью катехизического назидания христианам VII в.), а пример глубокой духовной интуиции на основе аллегорического (более точно в контексте семиотического описания — символического) толкования.
Высказанное предположение было бы неполным без рассмотрения возможных контраргументов. Как известно, молитва «Отче наш» также представлена в Евангелии от Луки (Лк 11:2–4), и в этой связи есть возможность сравнительно-сопоставительного анализа отрывков, содержащих данную молитву. Для экзегетического анализа мы обратим внимание на две существенные детали: личность автора-евангелиста и ситуативный контекст, в который автор помещает текст молитвы.
Согласно преданию, ев. Лука имеет эллинское происхождение. Мнение о его семитских корнях, основанное на упоминаемом ап. Павлом профессиональном ремесле — «врач возлюбленный» (Кол 4:14), — нами игнорируется по двум причинам. Во-первых, это не традиционная точка зрения для святоотеческого предания. Во-вторых, существенную роль играет филологический фактор, согласно которому Евангелие от Луки — текст, за которым стоит исключительно эллинский образ мышления (см.: [Карминьяк, 2005, 66–67]). Получается, что ев. Лука оказывается своеобразным антиподом ев. Матфею в когнитивной логике изложения языкового материала.
Ситуативный контекст в повествовании ап. Луки содержит важную деталь, которая отсутствует в Евангелии от Матфея: молитва даруется в ответ на просьбу учеников. Для убедительности прошения апостолы ссылаются на Иоанна Крестителя, который научил своих учеников особой молитве (Лк 11:1). Последнее показывает, что ев. Лука был хорошо осведомлен об иудейских религиозных традициях (см.: [Уолтон и др., 2010, 290]). Это обстоятельство, которое в некоторых вариантах жития апостола интерпретируется как факт принятия иудаизма (он стал прозелитом), не изменяет его мышления, отражающего именно эллинский культурно-религиозный тип.
Повествование Евангелия (Лк 11) идет в линейном развитии, по законам повествовательного жанра (διήγησις), в основе которого лежит текстовая структура, обусловленная логикой определенных причинно-следственных связей. Выше говорилось о восприятии понятия «центр» как архетипа человеческого сознания, однако в отношении к письменному слову эллинское сознание не проявляло такой степени ощущения сакральности, как иудейское. Для литературы эллинского происхождения, при наличии центра, особенно важны начало (введение) и заключение повествования.
Самым важным оказывается то, что контекст, в котором находится молитва «Отче наш», также имеет тринитарный характер! Апостолы обращаются к Сыну Божию,
Он учит их обращаться к Богу-Отцу и иллюстрирует настойчивость в молитве рядом жизненных ситуаций, по аналогии с которыми Отец даст Духа Святого просящим у Него. Такое повествование формально немного напоминает мидраш. Тем не менее, учитывая религиозно-культурный тип адресата текста («достопочтенный Феофил» (Лк 1:3) — эллин), можно предположить, что ев. Лука говорит о Молитве Господней более с опорой на правила эллинской риторики, чем на тяжелый для осмысления иудейский комментарий. Феофил, крещенный «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (49-е апостольское правило), в данной главе читает не просто текст с молитвой, но, говоря языком лингвистики, «текст, погруженный в жизнь», т. е. дискурс с подразумеваемым исповеданием Святой Троицы. Получается, что и в Евангелии от Луки молитва «Отче наш» семиотически и концептуально связана с тринитарным богословием.
Выше было отмечено, что традиционные толкования связаны с семантическим анализом отдельных лексем. Комментарии на слова «Отче наш» во многом обусловлены фактом первичности арамейской или ивритской основы текста Евангелия от Матфея. В XX в. под влиянием работ западных библеистов стало общепринятым говорить об арамейской основе греческого текста этого Евангелия. Особенно авторитетными в этом отношении были и остаются работы И. Иеремиаса. Глубину влияния его научного авторитета на отечественную библеистику можно оценить по словам прот. Василия Строганова, который, несмотря на новые библейские данные, остается согласным с И. Иеремиасом, а опыты о. Жана Карминьяка по реконструкции ивритской основы Евангелия называет «несостоявшимися» [Строганов, 2009, 31].
Несмотря на мнения авторитетных ученых, вопрос о первоначальном тексте остается открытым. Ряд библеистов уверенно считает, что в основе Евангелия от Матфея лежит ивритский текст (см.: [Карминьяк, 2005; Грилихес, 2022, 54]). Дж. Ховард издал перевод Евангелия от Матфея по еврейскому тексту, составленному Шем Товом бенИсааком в кон. XIV в. [Howard, 1995]. Современные университетские программы по истории иврита показывают, что существуют факты, свидетельствующие о том, что этот язык оставался в Иудее разговорным, возможно, до IV в. (см.: [Корниенко, Файн, 2010, 17]). В свете православной экзегезы особенно интересными оказываются выводы об этнорелигиозной идентичности галилеян, современников Иисуса Христа, в исследовании Н. Г. Неклюдова. Эти выводы свидетельствуют об иудейском религиозно-культурном фоне «Галилеи языческой» (Мф 4:15), которая фактически была заселена «иудейскими колонистами хасмонейского и иродианского периода» [Неклюдов, 2013, 160]. В контекст этого культурного фона, несомненно, должен включаться и язык. Однако лингвистический подход не связан с вопросом, сколько ученых за или против той или иной версии. Риторическое убеждение в такой ситуации не является главным аргументом. Необходимо проанализировать соответствующую лексическую единицу и понять, что конкретно привносит в семантическое содержание ивритский или арамейский корень.
Методика экзегетического анализа, основанная на понимании языка как трехмерного пространства, позволяет расширить рамки традиционного лексического анализа. Если обращение «Отче наш» отражает ивритскую словоформу 1УПК, «авину», то формально в лексическом анализе не должно присутствовать арамейской коннотации, т. е. перед нами обычное обращение «Отец наш», как производное от ивритского слова אב, «ав» (мест. суфф. «-ну», 1 л., мн. ч.). Особая коннотация появляется только в ситуации заимствования арамейского слова КПК, «авва», которое имело место в семейном обиходе: оно использовалось детьми, когда они обращались к своим отцам, т. е. фактически это слово означает «папа» (см.: [Мецгер, 2011, 160; Иеремиас, 1999, 87]). Арамейское слово, переводимое как «Отче наш», имеет такую же морфологическую структуру, как и ивритский вариант: אבון, «авун» (мест. суфф. «-н», 1 л., мн. ч.), т. е. имеет место грамматическая омонимия. Получается, что по одному слову переводчик никогда не сможет узнать, какой язык лежит в основе выражения «Отче наш». Обращение к концептуальному пространству языка позволяет совместить семантику обоих языков. Библеистам известно, что анализ отдельных концептов оказывается очень трудоемким процессом и редко используется в экзегетическом анализе в качестве основной задачи (см.: [Горбунов, 2022, 103]). Однако взаимосвязь ядра концепта и его периферии, что чаще всего выражается вербальными средствами, библеисты выявить могут. Путь описания концепта начинается в таком случае с анализа семантического пространства языка, которое является базовым в плане понимания содержания.
Очевидно, что арамеизм «авва» присутствует в других текстах Нового Завета (Мк 14:36, Рим 8:15, Гал 4:6). Это дает основание считать, что в иврите, кроме родного слова, действительно было арамейское заимствование. Если считать, что в молитве «Отче наш» стоит слово из иврита, а не из арамейского языка, то семантика данного обращения принципиально не изменяется. Евреи, употреблявшие арамеизм «авва» в ряде коммуникативных ситуаций, продолжали использовать и родное слово «ав». Но вошедшее в употребление арамейское заимствование «авва» обогатило форму выражения концепта «отец». В сознании носителей языка даже при традиционном вербальном обращении «Отец мой» задействуется концепт «Отец», который имеет расширенную полевую структуру и в семантическом пространстве может быть передан через лексему «папа». Здесь практическим опытом может стать ассоциативный эксперимент для носителей русского языка: насколько в слове «отец» отражается коннотативное значение, связанное с нежностью семейного слова «папа».
Интересно отметить, что в древней еврейской молитве «Амида» [Mishnah, 2024, Berakhot, 4:3], которая изначально составлена на иврите, пятое (тшува — покаяние) и шестое (слиха — прощение) прошения [Труд души, 1998, 25-26] имеют обращение к Богу в форме «Отче наш» («авину»). Как можно заметить, само содержание молитвы предрасполагает к тому, чтобы вложить в обращение «Отец наш» тот самый смысл, который связан с ситуацией близких и нежных отношений. Можно сказать, что в мишнаитскую эпоху описываемая коннотация была в той или иной мере иудеям знакома, т. е. имела место в национальной языковой картине мира. По этой причине приведенное в начале статьи толкование прп. Максима Исповедника оказывается уникальным в том смысле, что оно действительно раскрывает новое концептуальное содержание в обращении к Богу, которое хорошо согласуется с особым символическим расположением Молитвы Господней в Нагорной проповеди.
Подводя итог изложенным рассуждениям, можно сделать следующие выводы:
-
1. Предложенная методика экзегетического анализа оказывается вполне приемлемой для современной экзегетики. Изучение ценностно-смыслового пространства языка посредством лингвокультурологических приемов не нарушает алгоритм историко-филологического анализа, а, наоборот, развивает его лингвистическую основу.
-
2. Очевидно, что в анализе когнитивной и семиотической составляющих языка новозаветных текстов существует определенный ресурс, который позволяет анализировать духовные интуиции святых отцов через призму современной лингвистики. При этом следует учитывать опыт лингвистической науки и не уклоняться в крайности того или иного направления.
-
3. Толкование прп. Максима Исповедника показывает, как на языке Нового Завета в доникейскую эпоху формулировалось троичное богословие христианской Церкви.
-
4. В статье приведен сравнительно-сопоставительный анализ контекстов Молитвы Господней из двух Евангелий. Ничто не препятствует включить в контекст данной проблемы литургический дискурс, в котором верующие призываются к пению молитвы «Отче наш» как прославлению Бога-Отца, но при этом священник произносит заключительное славословие во имя Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа, маркируя таким образом троичный контекст Божественной Литургии.