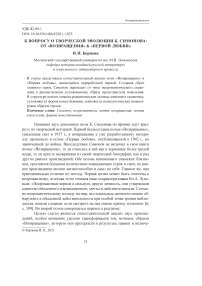К вопросу о творческой эволюции К. Симонова: от "Возвращения" к "Первой любви"
Автор: Коржова Инесса Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен сопоставительный анализ поэм «Возвращение» и «Первая любовь», являющейся переработкой первой. Создавая образ главного героя, Симонов переходит от типа неоромантического странника к реалистически усложненному образу представителя поколения. В структуре нового сюжета романтические мотивы изменяют семантику, усложняется форма повествования, появляется психологическая нюансировка образов героев.
Симонов, неоромантизм, мотив возвращения, мотив взросления, формы повествования
Короткий адрес: https://sciup.org/146282274
IDR: 146282274 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.025
Текст научной статьи К вопросу о творческой эволюции К. Симонова: от "Возвращения" к "Первой любви"
Названия двух довоенных поэм К. Симонова по иронии идут вразрез с их творческой историей. Первой была создана поэма «Возвращение», увидевшая свет в 1937 г., а возвращение к уже разработанному материалу произошло в поэме «Первая любовь», опубликованной в 1942 г., но законченной до войны. Впоследствии Симонов не включал в свои книги поэму «Возвращение», то ли относясь к ней как к черновику более зрелой вещи, то ли просто вычеркивая из своей творческой биографии, как и ряд других ранних произведений. Обе поэмы напоминают сиамских близнецов, сросшихся большим количеством совпадающих строк и сцен, но раннее произведение вполне жизнеспособно и само по себе. Главное же, оно принципиально отлично по методу. Первая поэма может быть отнесена к неоромантизму, эстетика этого течения емко охарактеризована Вл.А. Луковым: «Неоромантики верили в сильную, яркую личность, они утверждали единство обыденного и возвышенного, мечты и действительности. Согласно неоромантическому взгляду на мир, все идеальные ценности можно обнаружить в обыденной действительности при особой точке зрения наблюдателя, иными словами, если смотреть на нее сквозь призму иллюзии» [6, с. 309]. Во второй поэме совершается переход к реализму.
Целью статьи является сопоставительный анализ двух произведений, особое внимание уделено трансформации тем, мотивов, образов «Возвращения », которую они претерпели в результате правки и включе-
ния в художественную структуру зрелой поэмы. Поскольку две из четырех частей поэмы «Возвращение» вошли с незначительными изменениями в поэму «Первая любовь», составив в свою очередь ее третью, заключительную, главу, нас будут интересовать механизмы, обеспечивающие изменение семантики эпизодов при сохранении ими событийной наполненности.
Работ, посвященных эволюции поэтического творчества Симонова, немного. Литературоведы, фиксируя изменения в художественной манере молодого поэта, связывают их прежде всего с реальным военным опытом, полученным им на Халхин-Голе, и исследуют эстетический перелом на материале военной лирики. Этот подход реализуют Л. Лазарев [4] и И. Фрадкина, четко обозначившая произошедшие в манере поэта изменения: «Оставаясь верным героической теме, Симонов от романтически приподнятого ее воплощения переходит к подчеркнуто реалистическому» [12, с. 33]. Знаменательно, что при изображении внутренней жизни героя поколения, в том числе его любовных переживаний, намечается то же движение к реалистической сложности и полноте. Судя по особенности проблематики и поэтики еще одной поэмы о любви, «Пять страниц», оно происходит даже ранее военной командировки, еще в 1938 г. Поскольку работа над поэмой «Первая любовь» заняла пять лет, мы не можем точно датировать поворот в мышлении автора. Однако сопоставительный анализ двух родственных произведений предоставляет уникальную возможность проследить изменение эстетики Симонова.
Л.А. Финк, посвятивший несколько страниц монографии о Симонове характеру переработки поэмы «Возвращение», характеризуя причины повторного обращения к сюжету, указывает на поиск типично реалистической обусловленности событий: «Очевидно, Симонову захотелось найти социальные причины разрыва, осмыслить конфликт не только как столкновение личностное» [11, с. 52]. Но в художественном целом новой поэмы «дописанные» главы перерастают роль предпосылки, образуя центр произведения, а события «Возвращения» становятся не центром нового сюжета и даже, думается, не развязкой, а эпилогом. По нашему мнению, причиной повторного обращения к сюжету стало желание не столько прояснить событийную канву, сколько показать становление характера героя, высветить изнутри человека, который в ранней поэме представал романтическим незнакомцем.
В основе раннее поэмы «Возвращение» находится романтическая ситуация, названная Ю. В. Манном «вторичным отчуждением» [8]. Герой ненадолго возвращается в город, который покинул четыре года назад, и, не найдя ничего, что задержало бы его, отплывает вновь. В городе его ждут три встречи: первая, условная, с умершей матерью (происходит в пространстве воображения); вторая с заводскими друзьями и с самим заводом; третья, кульминационная, – с бывшей женой. И после каждой герой остается в одиночестве. Мотив разочарования здесь приглушен, да и не мог звучать в полную силу, ведь герой покидает взрастивший его завод, но все же в самом повторном отъезде чувствуется неудовлетворенность жизнью, которую может дать ему город. Избранная сюжетная схема входит в невольный конфликт с вполне ощутимым интересом автора к трудовой жизни заводчан. Герой оказывается, конечно, не романтическим изгнанником, но неоромантическим искателем, неудовлетворенным своим настоящим.
В переделке поэмы мотив бегства не только не исчезает, но и многократно умножается. И уже в силу этого теряет свой потенциал выразителя конфликта. Развитие сюжета строится как череда разрывов с прошлым и уходов. Герой убегает из дома, расстроенный переездом девочки-соседки; позже переселяется от родителей в «заводской дом»; уезжает из города на учебу и возвращается после телеграммы героини; снова покидает город спустя год, вероятно не найдя гармонии в отношениях с любимой; приехав на похороны матери, не проводит на родине и лишнего часа; наконец, оказавшись проездом в родных местах и встретившись с бывшей женой, уезжает снова. Такая повторяемость делает «бегство» не романтическим отчуждением от среды, а частью пути взросления.
Хотя название второй поэмы безальтернативно выводит в качестве главной темы любовь, можно сказать, что писателя занимает формирование типа скитальца, который был представлен в ранней поэме как сложившийся характер. При этом автор, тематически сузив произведение, выделил очень личный аспект становления героя, смело освободив поэму от изображения политической и общественной жизни, отказавшись от портретов ровесников героя. Из трех частей ранней поэмы Симонов вычеркивает вторую и самую пространную, рассказывавшую о встрече с заводскими друзьями. Известен внутренний отзыв на «Первую любовь» А. Фадеева, поставившего поэме в вину, что переживания юноши в ней «точно вынуты из окружающей жизни» (цит. по: [11, с. 53]). Однако Симонов с этой оценкой не согласился ни тогда, ни после. Упреки Фадеева повторил Л. А. Финк, увидевший «слабую слитость ее <поэмы> сюжета с жизнью страны» [Там же, с. 52]. И все же, думается, Симонов избежал герметичности: воздух эпохи свободно входит в поэму. И в изменившемся сюжете эта абрисно воссозданная среда интересна не потому, что герой ее оставил, а потому, что он в ней жил.
Хотя каждое новое «бегство» героя связано с любовью, но он, руководимый индивидуальными порывами, в своем движении повторяет путь поколения. В финале первой части герой, расстроенный переездом соседки, уходит из дома. Этот шаг уже в следующей части осмысляется как необходимый на пути мужания, на котором герой вовсе не одинок: «Когда я снова роюсь в этих датах, / Я и доныне верю не шутя, / Что в тридцать первом не было женатых, / Что все женились года два спустя» [10, c. 410]. Через несколько лет, приведенный в Москву не только желанием учиться, но и глубоко личным мотивом – стремлением разорвать непонятные отношения, герой оказывается окруженным людьми с похожей биографией: «Сюда сошлись, на бивуак ночной, / Все больше люди с крепкими руками, / С хорошей выучкою за спиной. / Они себе казались стариками… [Там же, с. 420].
Исключив темы товарищества и трудовых свершений, Симонов не только дополнил предысторией любовную линию, но и показал в развитии отношения героя с матерью. Соединение в поэме двух тем было принципиально важно для автора. В прозаических заметках к поэме он писал: «Мать как вечная, но самая верная тень, подруга сына, отступающая в сторону, когда у него жена, но навсегда не уходящая» [Там же, с. 595]. Симонов смело открывал частного человека и менял привычное для литературы тех лет соотношения планов, прямо не сталкивая героя с эпохой, но и не изымая из нее. Возможно, на такое соотношение Симонова вдохновил «Спекторский». Ориентацию на стиль Пастернака отмечала в поэме «Возвращение» Т. Хмельницкая [13]. По нашему мнению, в поэме «Первая любовь» это влияние еще более отчетливо как в области стиля, так и вопросе соотношения планов изображения.
Каждая из трех глав поэмы отделена от следующей семилетним промежутком. В первой герои еще очень юны. Перед нами пятнадцатилетние девочка и мальчик, незнакомые, но живущие рядом и с любопытством следящие за жизнью друг друга. Хотя отношения начнут развиваться через много лет, важно внимание автора к этой поре. Поэма о чувствах 20–23-летних героев, заканчивающаяся на пороге их 30-летия, не случайно носит название «Первая любовь», в этом чувстве изначально много идеализации другого и незнания себя.
Начало второй главы – первый отъезд героя из родного городка – дается безо всяких разъяснений. Симонов нарушает хронологию и создает интригу, не проясняя отношений героя с провожающей его девушкой. Пока не известно даже, что перед нами та самая соседка, с которой жизнь свела героя вновь. И лишь его дорожные размышления восстановят события хронологического перерыва и расскажут о мучительной искусственной дружбе, связавшей героев.
Прием воссоздания прошлого посредством воспоминаний героя был использован и в ранней поэме, но рисовал заводские будни. В «Первой любви» значение этого приема повышается, с его помощью введена центральная часть поэмы. Заметим, что при кажущемся усилении организующей роли субъективности героя, этот прием демонстрирует усложнившуюся манеру повествования, постоянное изменение дистанции между героем и автором, который выступает то бесстрастным хроникером, то сливает свое сознание с сознанием героя.
Симонов разрушает принцип моногеройности, которому была подчинена ранняя поэма, и воссоздает также точку зрения матери и возлюбленной героя, хотя эти фрагменты и единичны. Наиболее ярко это проявляется в передаче кульминационного эпизода дважды, глазами обоих участников. Л. А. Финк, указавший на этот прием, отмечает: «Глубине психологического анализа способствует и непривычный для поэзии композиционный строй: на одно и то же событие Симонов смотрит глазами обоих героев. Об этом стоит сказать подробнее, ибо возрастающее мастерство Симонова, как мне представляется, обогатило аналитические ресурсы поэзии» [11, с. 50]. Обидное равнодушие к герою подруги, без опасений оставшейся у него после долгой зимней прогулки и мирно заснувшей на его кровати, оказывается сознательным девичьем заигрыванием с огнем. Таким образом, Симонов усложняет повествование, нарушает хронологию, создает элементы занимательности и ложных ходов с целью исследовать психологически сложные отношения героев.
В поэме «Первая любовь» были усилены тенденции ранней поэмы к сложному соединению нескольких форм повествования. На фоне повествования от третьего лица уже в «Возвращении» выделялись фрагменты, написанные от лица «мы». Это был и голос ближнего круга друзей героя, и голос поколения: «Им вспомнились недавние года, / Когда нам по талонам выдавались / Жиры и хлеб…» [9, с. 142]. Порой в повествовании появлялось первой лицо (но это скорее незакавыченные мысли героя) и второе лицо, напоминающее не столько обращение к другому, сколько объективированный рассказ о себе: «Клокочет пароходная сирена, / На перекрестке ждут тебя друзья…» [Там же, с. 145]. В зрелой поэме формы повествования еще более разнообразны и с точки зрения грамматического оформления, и с точки зрения принадлежности голосов.
Лишить бы нас печального пристрастья
Вновь приезжать на старые места, Как был бы рад из памяти украсть я Ту комнату, которая не та, Давно не та, – другими нанята И все-таки, назло тебе, похожа, Похожа так, что вдруг мороз по коже, Когда пройдешь на память этот дом
Здесь женщина, с которою когда-то
Он прожил год в своем пустом углу… [10, с. 427–430].
Фрагмент от первого лица единственного числа в начале приведенной цитаты невозможно атрибутировать как размышления героя – это голос повествователя. Усиливается роль множественного числа первого лица, создающего особый лиризм и сливающего «отступления» с сюжетом. Автор то разделяет с героем его переживания, то отдаляется от него, но в целом ощущение полного слияния автора с персонажем не возникает. Их роднит не столько событийная, сколько психологическая линия. В целом можно говорить о присутствии в поэме сложных отношений между автором и героем, которые близки описанному С.Н. Бройтманом неосинкретизму. Приме- нительно к лирике рубежа XIX–XX века феномен описан как «снятие субъектных противоположностей и создание субъектной неопределенности» [1, с. 218–219]. Сложная форма повествования у Симонова порождена иным мировосприятием, он активно использует форму «я – мы», не характерную для неосинкретизма [Там же, с. 216]. Однако В.Я. Малкина рассматривает названную форму на материале советской поэзии. У Симонова находят реализацию четыре из шести выделенных ею пунктов:
-
- внезапная смена местоимений с одного лица на другое;
-
- неожиданные смены субъектов речи, действия и наблюдателей;
-
- использование одного и того же местоимения применительно к разным субъектам;
-
- отсутствие обозначенных границ различных форм речи (прямой, косвенной, несобственно-прямой) [7, с. 35].
Форма повествования в поэме «Первая любовь», как нам кажется, должна была компенсировать ту суженность сферы изображения, которую отмечали критики и литературоведы.
Третья часть поэмы посвящена последнему возвращению героя. Предшествующий разрыв, как и в раннем варианте, не воссоздан, как не даны и очевидно драматичные переживания единственного года совместной жизни героев. Но теперь этот год пропущен по иным причинам, чем ранее. В поэме «Возвращение» герой имел в прошлом ту неопределенность судьбы (вместе с, казалось бы, реалистической трудовой биографией), которая задавала его обособленность, выдвигала сам разрыв, а не его причины. Теперь же предыстория убеждала в изначальной обреченности отношений. В этом проявляется своеобразная фатальность первой любви, которая не растет с героями, не принимает новых форм.
В первой главе появляется и возвышается затем до символа деталь – платьице из ситца – образ по-детски простого, но максималистич-ного и цельного чувства. Уже в начале произведения героиня прощается с этим нарядом: «Где детство – исцарапанный пенал, / Босые ноги, платьице из ситца?» [10, c. 405]. Еще в первое возвращение герой мечтает видеть героиню в этом девичьем наряде:
И штопаное ситцевое платье,
В котором ходят только для него.
Он наизусть в нем знает все заплатки,
Он любит, чтобы дома, встав со сна,
Опять вся в школьных бантиках и складках, Как девочка, в нем бегала она [Там же, с. 422].
Правда, и она сама хочет «Еще хотя бы год не покидать / Лукавого сословия девчонок» [Там же, с. 425]. Остается непроясненным, сошлись ли они слишком рано или слишком поздно, уже «перелюбя». Но постоянная рассинхронизация их с реальным временем и возрастом и друг с другом в поэме очевидна.
В финале символический образ ситцевого платья появляется вновь. Он с еще большей безапелляционностью, чем повзрослевшее лицо возлюбленной, говорит о невозможности удержать время, остаться под очарованием первой любви:
На коврике под детскою кроватью,
Среди подвязок, туфель и чулок, Валялась тряпка – выцветший кусок От старенького девичьего платья.
Должно быть, ей уж не первый год Стирали пыль и вытирали туфли, И ситцевые розочки потухли
От этих многочисленных невзгод [Там же, с. 435].
Перейдем к анализу стилистической и содержательной правки, которой подверглись перешедшие в новую поэму фрагменты «Возвращения». Симонов использует первую и третью части поэмы «Возвращение», но меняет порядок взятых строф. Теперь герой приезжает именно для того, чтобы увидеть возлюбленную, поэтому строки о ней оказываются в начале главы.
|
Там женщина, с которой слишком долго Они дружили, обманув себя, И вдруг сошлись, не разобравшись толком, Скорее сожалея, чем любя. |
Здесь женщина, с которой слишком долго Они дружили, обманув себя, И вдруг сошлись, не разобравшись толком, Уже перетерпев, перелюбя. |
|
Их чувству дружба старая мешала; Они стыдились признаваться в нем, И то, что было ночью, их смущало И приводило в раздраженье днем. |
Их чувству дружба прежняя мешала; Они стыдились признаваться в нем, И то, что было ночью, их смущало, Смотреть в глаза не позволяло днем. |
|
Здесь женщина, с которой слишком скоро Они расстались, не решив зачем [9, с. 144]. |
Здесь женщина, с которой слишком быстро Они расстались, не успев решить. Бывают расставания как выстрел Ни дня, ни часу дольше не прожить. <…> Но есть еще другие расставанья: Без громких ссор, без точки на конце, Ползущая сквозь дни и расстоянья Болезнь, похожая на ТБЦ, – Уже все зарубцовано, по году Уже врачей мы не пускаем в дом, И вдруг весной, в ненастную погоду, Опять, как рыбы, ловим воздух ртом [10, c. 430]. |
Отметим замену наречия: теперешнее расстояние ничтожно по сравнению с тем, что разделало героев долгие годы. В этом «здесь» точнее выразилось предощущение близости решения собственной участи, возможности соприкоснуться с жизнью героини или даже вновь стать частью ее судьбы. Объясняя изначальную причину разлада, Симонов отказывается от малопонятного безобъектного «сожалея» ради точного неологизма «перелюбя». Подчеркнуто иначе осмысляется разрыв. Его прежние черты (внезапность и окончательность) теперь отрицаются и составляют антитезу подлинной характеристике отношений.
Прежде единый фрагмент встречи с бывшей женой разбивается, его продолжение ждет читателя не скоро, так как мотивы героя усложняются: «Нет, он сюда зайдет в обрез. Зайдет / Уже перед отплытьем, мимоходом. <…> / Что скажешь ей за эти пять минут? / Да ничего. Ну вот и слава богу» [Там же, с. 431]. В ранней поэме герой лишь в конце дня пребывания в родном городе «вспоминал» о бывшей жене. В системе ранней поэмы это не выглядело ни черствостью, ни волевым самоограничением. Сюжетом и героем двигала схема, предполагающая своеобразную градацию чувств и разноаспектность испытаний. И каждая встреча неизменно подтверждала то, что составляло условие жанра и проявлялось в ситуации возвращения – герой чужероден всем, кого он встречает в городе.
В поэме «Первая любовь» между первоначальным намерением и отложенным свиданием введена сцена поиска друзей и эпизод воспоминания о матери. Пронзительная сцена горьких предсмертных ожиданий приезда сына оставлена почти без изменений. Лишь знакомый рефрен «Куда ж пойти мне?» трансформировался в фиксирующий раздвоенность субъекта «Куда ж пойти нам», да самоуверенное «Ведь никогда ее не обижал» [9, с. 140] заменено на выдающее внутреннее сомнение «Казалось, никогда не обижал» [10, с. 431]. В построенной на прямом выражении чувств сцене рыдания героя у дома матери Симонов тонко меняет модус с реального на возможный: «Он вдруг заплакал, прислонясь к стене» [9, с. 141] – «Ему сегодня только не хватало / Взять и заплакать, прислонясь к стене [10, с. 432]. Так, не снижая силы эмоций, поэт снимает с эпизода налет мелодраматичности.
Завершает поэму встреча с возлюбленной.
Когда его тяжелая рука,
На миг запнувшись, распахнула двери, Все было тихо. В четырех шагах Шел по полу ребенок и с доверьем Разглядывал мужчину в сапогах.
Он быстро поднял мальчика на воздух И, посмотревши в круглые глаза, С ним на руках вошел, как входят в воду, Решительно и не глядя назад [9, с. 144].
Он приоткрыл чуть скрипнувшие двери. Все было тихо. Только в двух шагах Шел по полу мальчишка и с доверьем Разглядывал мужчину в сапогах.
Он подхватил мальчишку. Нет, не в мать, Совсем не в мать: белесый, светлокожий, И все же чем-то – сразу не поймать – Лукавством, что ли, на нее похожий.
– Да сколько же тебе? – Четыре года.
– Где мама? – Там… – И, не спуская с рук, Вошел в другую комнату, как в воду, На всякий случай взяв с собою круг [10, с. 434].
Несомненно, Симонову удается сделать начало эпизода более точным. Введение несобственно-прямой речи помогает передать волнение первых минут и ревнивый интерес к сыну любимой женщины. Характерна трансформация сравнения «вошел, как в воду». В раннем варианте подчеркнута решительность шага, акцент делается на воле героя, готового к судьбоносной встрече. Переработка снова усиливает нюансировку образа. Ребенок служит мужчине спасательным кругом. Герой не переходит в разряд внутренне слабых, но эпизод выявляет человеческое в нем: волнение, боязнь выдать чувства и совершить нечто опрометчивое.
Эпизод первых ошеломляющих минут встречи изменен. Симонов отказывается от исполненной эротическими мотивами сцены кормления и воспроизводит полную бессвязных реплик беседу. Уплотняется и предметный фон поэмы: героиню обступает хаос вещей. В квартире, «как в часы отлива и прилива, / Слонялись вещи от стены к стене» [Там же, с. 434]. Туфли, стулья, этажерки, комоды буквально вытесняют прошлое из комнаты и напоминают об удушающе плотном бытовом фоне, окружавшем антигероев ранних поэм Симонова. Далее поэт подробно воспроизводит, как во время прогулки по саду женщина хвастает насаженными примулами, резедой и табаком. От этих растений исходит тот же дух пошлости, что и от цветочков в мечтах Наташи из «Трех сестер».
В целом усложняя образ героя, поэт неожиданно начинает упрощать себе разрешение художественной задачи, показывая его возлюбленную жестокой мещаночкой. Кажется, не только герои, но и сам автор не может разобраться в хитросплетениях их чувств, поэтому решает разрубить гордиев узел, выбрав средство посильней, чтобы герой наконец разлюбил героиню.
Герой обнаруживает, что между увиденной им женщиной и девочкой, которую он любил, немного общего. Перерождение героини кажется еще более резким после того, как в финале второй части автор воссоздал психологическую точку зрения героини, раскрыл и ее драму самообмана. При этом некоторые фрагменты диалога, противореча оценке героини в этом эпизоде, говорят о проницательности и честности этой женщины.
– За все семь лет ни одного письма.
– А ты ждала? – Нет, не ждала. Но все же…
– Что все же? – Все же… Впрочем, все равно,
Позвал тогда, – пожалуй, прибежала б [Там же, с. 434–435].
На этом фоне завершение встречи выглядит еще более спрямленным.
А голос стал решительным и шумным, Ей, правда, очень кстати твой приезд, Чтоб рассказать, что Толя старший – умник, Что Сашенька без передышки ест, Что первенец родился поздно ночью И было ей не страшно и легко, И что она прикармливать не хочет Пусть дети пьют родное молоко [9, с. 145].
Ей, право, очень кстати твой приход, Чтоб мстительно похвастаться семьею, Сказать, что сыну скоро пятый год (А мог девятый быть у нас с тобою), Что младший весь пошел лицом в отца (А мог в тебя). Намеки были робки, Нигде не прорывались до конца, Но в каждой фразе замыкались в скобки.
– Так все и бродишь? – Так уж повелось, Когда-то ведь за это и любила.
– Была глупа, да мало ли что было, Нельзя ж мальчишкой до седых волос [10, с. 435–436].
Эта же сцена неожиданно приклеивает к герою амплуа «бродяги». Причем фраза «за это и любила» никак не подтверждается сюжетом, который, во-первых, ставил под сомнение саму ее любовь, а во-вторых, крепко связывал героя с родным городом. Странничество могло начаться только после их разлуки. Зато финал напоминает об «амплуа» героя поэмы «Возвращение», образ которого и намеревался с новых позиций исследовать Симонов.
Перед нами, противореча всем тенденциям переработки поэмы, возрождается один из романтических мотивов. Последняя реплика, как самый тяжкий проступок героини, вызывает резкое отрезвление героя: «Кто эта женщина?». Но завершает поэму даже не сегодняшнее разочарование, а более глобальная переоценка прошлого. Общей для обеих поэм является следующая строфа:
Он вышел вон. У поворота к школе,
Ютясь в пальтишко узкое свое, Шла выросшая девочка, до боли Похожая на прежнюю ее;
Похожая почти до совпаденья, Неся в руках похожие цветы, Прошла, как мимолетное виденье, Прошла, как гений чистой красоты [9, с. 145; 10, с. 437].
Цитата оформляет единственное прямое обращение к романтической традиции. Как известно, А.С. Пушкин в своем стихотворении обратился к тексту старшего современника, присоединив таким образом свой голос к важному романтическому мифу: «В том же послании к Керн – отчасти навеянном, как известно, Жуковским (“гений чистой красоты”) – сюжет о встрече души с памятным ей небесным образом сохраняет, конечно, религиозную окраску» [2, с. 542]. В «Лалла Рук» В.А. Жуковского образ женщины предельно эфемерен, это идеал надмирный, невоплотимый в действительности: «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты; / Лишь порой он навещает / Нас с небесной высоты» [3, с. 223]. Цитата позволяет посмотреть на любовную драму героя с позиции высокого романтизма и выявить изначальную невозможность воплотить первую любовь. Перед нами «романтическая интерпретация значительно более древнего культурного мотива подмены: любя свою возлюбленную, поэт любит в ней нечто иное. При этом функционально активен именно акт замены: важно утверждение, что любишь не того, кого любишь. Конкретные же функтивы замены могут меняться. Это может быть замена женщины другой женщиной, реальной женщины несбыточной мечтой, иллюзиями прошлых лет, замена женщины ее подарком или портретом и т. п. [5, с. 170].
Если в первом варианте поэмы можно увидеть реализацию мотива невозможности женщины соответствовать высокому идеалу, то во втором варианте коллизия смещается в субъективную сферу: это герой долго жил самообманом. В поэме «Первая любовь» Симонов добавляет к фрагменту о «мимолетном видении» следующие строки:
И вдруг он понял: вот с кем он прожил Все эти годы странствий и обманов, Вот чьи он фотографии возил
На дне пустых дорожных чемоданов [10, с. 437].
Сюжетно герой порывает с этими вторичным образом, возвращается к реальности, но для построения такого финала Симонову потребовалось обратное: вернуться к романтическим мотивам, от которых он активно отходит на протяжении поэмы.
Сопоставительный анализ параллельных фрагментов поэм говорит о целенаправленном движении автора к реализму, впрочем, как и о точном понимании романтической природы сюжетной схемы ранней поэмы. К важным выводам работы может быть отнесено доказательство зависимости семантики мотива от места в сюжетной схеме произведения. Ряд романтических мотивов нивелируются уже одними композиционными перестановками. Завершение поэмы с ее темой самообмана уводит проблему в другую плоскость, не решая центральной коллизии дружбы и любви. Но важно отметить, что сама поставленная проблема резко противоречит тенденциям времени. Любовь в советской поэзии середины 1930-х гг. почти не отличалась от товарищества и органично соединялась с ним. Их конфликт был возможен разве что в юмористических стихотворениях. Симонов же начинает сложный поиск ответа о соотношении дружеского, платонического и страстного начала в любви. Психологическая углубленность знаменует перелом в творчестве Симонова, его отход от неоромантизма. Обычно этот новый этап творчества Симонова связывают с первым реальным боевым опытом, полученным в 1939 г. в Монголии, и с военным циклом «Соседи по юрте». Но изучение поэмы «Первая любовь» позволяет утверждать, что поиск новой эстетики велся при разработки различных тем.
Список литературы К вопросу о творческой эволюции К. Симонова: от "Возвращения" к "Первой любви"
- Бройтман С. Н. Русская лирика XIX – начала ХХ века в свете исторической поэтики: Субъектно-образная структура. М. : Рос. гос. гум. ун-т, 1997. 307 с.
- Вайскопф М. Я. Влюбленный демиург: Метафизика и эротизм русского романтизма. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 692 с.
- Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Т. 2. М. : Языки рус. лит, 2000. 839 с.
- Лазарев Л. И. Поэзия Константина Симонова // Симонов К. М. Стихотворения и поэмы. Л. : Сов. писатель, 1982. С. 5–68.
- Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб. : Искусство-СПБ, 1996. 848 с.
- Луков Вл. А. Неоромантизм // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 309–312.
- Малкина В. Я. Субъектный неосинкретизм в российской лирике ХХ века: проблемы типологии и анализа // Известия Рос. Акад. наук. Серия литературы и языка. 2019. Т. 78. № 3. С. 33–38.
- Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М. : Рос. гос. гум. ун-т, 2007. 518 с.
- Симонов К. Возвращение // Октябрь. 1937. № 7. С. 140–146.
- Симонов К. М. Стихотворения и поэмы. Л. : Сов. писатель, 1982. 623 c.
- Финк Л. А. Константин Симонов. Творческий путь. М. : Сов. писатель, 1979. 415 с.
- Фрадкина С. Я. Творчество Константина Симонова. М. : Наука, 1968. 207 с.
- Хмельницкая Т. Твердые строки (Поэзия Симонова) // Литературный современник. 1940. № 2. С. 130–137.