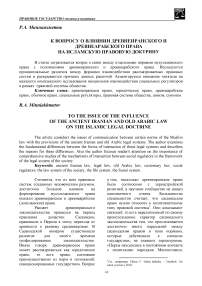К вопросу о влиянии древнеиранского и древнеарабского права на исламскую правовую доктрину
Автор: Минниахметов Р.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (34), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается вопрос о связи между отдельными нормами мусульманского права с положениями древнеиранского и древнеарабского права. Исследуются принципиальные различия между формами взаимодействия рассматриваемых правовых систем и раскрываются причины данных различий. Акцентируется внимание читателя на важности комплексного исследования механизмов взаимодействия социальных регуляторов в рамках правовой системы общества.
Древнеиранское право, юридическое право, древнеарабское право, обычное право, социальные регуляторы, правовая система общества, шиизм, суннизм
Короткий адрес: https://sciup.org/142232478
IDR: 142232478
Текст научной статьи К вопросу о влиянии древнеиранского и древнеарабского права на исламскую правовую доктрину
Считается, что из всех правовых систем, созданных человеческим разумом, достаточно большое влияние на формирование мусульманского права оказали древнеиранское и древнеарабское (доисламское) право.
Расцвет древнеиранского законодательства пришелся на период правления династии Сасанидов, правивших в Персии в эпоху перехода от древности к раннему средневековью. В Сасанидской империи существовало развитое для своего времени унифицированное законодательство. Иначе говоря, древнеиранское право может рассматриваться как юридическое право, то есть право, состоящее преимущественно из норм и положений, санкционированных государством. Вопрос о том, насколько древнеиранское право было соотносимо с зороастрийской религией, в научном сообществе не нашел однозначного ответа. Большинство специалистов считает, что сасанидское право нужно относить к позитивистскому типу правовой системы1. Они доказывают светский, то есть нерелигиозный по своему происхождению характер сасанидского законодательства тем, что прослеживается достаточно много параллелей между сасанидским правом и теми нормами, которые действовали в соседних государствах, не знавших зороастризма. «Персы находились в постоянном контакте с семитскими народами Месопотамии.
'См., например: Ekinci Е. Islam hukuku. - Istanbul: Ari saiiat yaymevi, 2006.

Более того, известно, что были налажены тесные отношения между Сасанидами и византийскими императорами. Нормы действующего тогда гражданского права у персов и византийцев во многом пересекались. Однако невозможно определить, какие положения проникли из Византии в Персию, а какие, наоборот - из Персии в Византию»'.
Исследователи, проводя параллели между мусульманской правовой доктриной и действовавшим в сасанидском Иране законодательством, констатируют наличие некоторых схожих моментов в вопросах, посвященных государственному обустройству. Возможно это связано с тем, что другие сферы сасанидского законодательства (брачно-семейные отношения, торговое и коммерческое право и т.д.) на предмет их соотносимости с исламским законодательством к настоящему времени подробно не исследованы3. Однако, как видится автору данной статьи, основная причина достаточно схожего толкования положений о государственном строительстве в обеих правовых системах кроется в другом. Дело в том, что к моменту проникновения мусульманской религии на территорию Персии политическая элита ираноязычных народов уже имела богатейшие традиции государственного строительства, корнями уходящие в эпоху древности. Вопросы государственности, в том числе касаемые механизма передачи власти, занимали важное место в интеллектуальной мысли средневековых персов. Думается, причину сакральности института государственности и повышенное внимание к вопросам формирования политической власти у мыслителей-правоведов из числа представителей шиитских правовых школ, нужно искать именно в этом4. В этой связи достаточно убедительно и актуально звучат слова
2Ekinci Е. Указ. соч. С.48.
3См. Ekinci Е. Указ. соч.
4 Более детально о шиитской концепции государственной власти см.,: Момотов В.В., Свечникова JI.E. Основы исламского законодательства. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009.
известного российского ученого Ф.М. Раянова о том, что «проблема верховной власти в мусульманском мире, возникшая еще в период правления Османа и Али (VII в. н.э.), продолжает волновать мусульманский мир до сих пор. В частности, так называемая «арабская весна», возникшая уже в XXI веке, в своей основе упирается в эту же проблему верховной власти»5.
Особенности государственного устройства Сасанидской империи заключались в следующем. Для империи была характерна чрезвычайно высокая степень централизации государственной власти. Приказы правителя составляли основу законодательной базы страны. В этом заключается принципиальное отличие от исламского классического права. Правитель назначал доверенное лицо, то есть визиря , выполняющего исполнительные функции. Институт визиръства без каких-либо серьезных изменений впоследствии появится и в Арабском халифате. Интересно, что слово «визирь» употребляется и в Коране с тем же смысловым наполнением6. При правителе государства Сасанидов действовал совещательный орган - диван , который также без институциональных изменений будет играть важную роль в управлении арабским государством в период правления династии Омейядов. Иран при Сасанидах был поделен на административные единицы, во главе которых находились сатрапы. Сатрапы отдаленных регионов собирали налоги и отправляли их в Ктесифон - столицу империи Сасанидов. Интересно, что население центральных регионов было или полностью освобождено от налоговых
5Раянов Ф. М. Мусульманско-правовая доктрина и ее современное измерение // Проблемы востоковедения. -2013. №2. С.12.
“Ekinci Е. Указ. соч. С.48.

повинностей, или же их отчисления в казну были незначительны. Подобную дифференциацию в налоговой политике будут в дальнейшем применять арабские халифы, освобождая от тяжелых повинностей мусульманское население. Однако, пожалуй, одним из самых ярких подтверждений того, что зороастризм все же оказывал влияние на функционирование сасанидской правовой системы, является тот факт, что верховный судья назначался духовенством, о чем пишут и российские и зарубежные исследователи'. Напомню, что существовавший в эпоху древности и раннего средневековья на Востоке институт жречества - это прообраз духовенства в современном понимании данного термина. Именно жрецы во многом определяли судебную политику в Сасанидской империи. Как справедливо пишут отечественные исследователи, «есть сведения, что в IV-V в.в. глава жречества, мобедан-мобед, бывший одновременно и верховным судьей (совпадение религиозных и судебных функций в руках жрецов обычно для многих восточных обществ), занимал первое место в 8 государстве после самого шанханшаха» .
Итак, многочисленные параллели между классическим исламским правом, прежде всего, в его шиитской интерпретации, с одной стороны, и законодательными нормами государства Сасанидов в той части, которая касается, в первую очередь, института государства и механизмов его функционирования, указывают на относительную
7См., например: Васильев JI.C. История Востока: В 2 т. Т.1. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2001; Ekinci Е. Указ. соч.
8Васильев JI.C. История Востока: В 2 т. Т.1. - 2-е изд., испр. и доп. -М .: Высш. шк., 2001. С.263.
преемственность двух видов права 9 древнеиранского и мусульманского .
В Древней Аравии до зарождения ислама, безусловно, существовали свои нормы, регулирующие жизнь араба-язычника и всего общества в целом. Древние арабы не знали законодательства в современном значении этого слова, а те нормы, которыми регулировалась их жизнь, образовывали так называемое обычное право. Иногда для обозначения обычного права в юридической литературе используются такие термины, как «примитивное право», «традиционное право», «архаичное право» и др..
В силу того, что говорить о формировании государства как общественного института у арабов-язычников не приходится, исследователи в своих изысканиях обычно затрагивают семейные, коммерческие и уголовнонаказуемые правовые нормы и положения, рассматривая их в контексте с исламской правовой доктриной.
У доисламских арабов достаточно устойчиво прослеживались правила, по которым строились семейно-брачные отношения. Например, молодая женщина выходила замуж по воле и усмотрению отца, который получал за выдачу замуж своей дочери материальное вознаграждение. Специалисты констатируют наличие целой системы браков у арабов-язычников. В доисламской арабской общине разрешалось многоженство, однако брак между близкими родственниками был под запретом. Достаточно распространенным было усыновление (удочерение). Мужчина в любой момент мог развестись со своей
9Более подр. см.: Минниахметов Р.А., Нуриев Б.Д. Еосударство и право в исламской правовой доктрине. -Уфа: РИЦБашГУ, 2013.

спутницей жизни, однако должен был предварительно выплатить ей определенную сумму денег10 или подарить ей украшения. Женщина, оставшаяся вдовой, в течение года не могла заново выйти замуж. Количество наследников в завещательном акте, который нередко выполнялся в устной форме, не ограничивалось. Старший сын умершего отца отвечал по его долгам. Правовые нормы доисламских арабов-язычников касались и торгового законодательства: жители прибрежной Аравии могли создавать торговые союзы, брать движимость и недвижимость в кредит, выдавать ссуды. Не выплатившая вовремя обязательства по кредиту сторона лишалась недвижимости, а в случае ее отсутствия, должники становились рабами. Преднамеренное убийство наказывалось смертной казнью. Более того, ответственными в злодеянии считались и ближайшие родственники убийцы. В случае невозможности определить убийцу 50 жителей селения публично клялись в своей невиновности11.
С принятием ислама в сфере брачно-семейных правовых норм сохранился запрет на вступление в брак с близкими родственниками. Был сохранен и срок, в течение которого вдова не могла выйти замуж. Также не претерпел изменений порядок предоставления денежного вознаграждения отцу выходящей замуж дочери, более того, несоблюдение данного обычая стало считаться преступлением. Но в целом ислам принес существенные изменения в жизнь арабов-язычников, ряд норм претерпел значительную корректировку, некоторые положения были отменены. Отныне разновидности брака были сведены к минимуму, разрешалось брать
10 Арабы, живущие в прибрежной зоне, пользовались местными денежными знаками.
11 Ekinci Е. Указ. соч. С.49.
_______________________________ №4(34)2013 в жены не более четырех женщин. Был введен запрет на брак мужчины с мачехой и двоюродными сестрами. Женщинам предоставлялось право инициировать бракоразводный процесс. Количество наследников ограничилось тремя, женщина могла стать наследницей имущества умерших родителей. В торговом законодательстве отменялась ставка процента и чрезмерная прибыль от продажи недвижимости или ценного имущества. В уголовном законодательстве снималась ответственность с родственников убийцы.
Итак, согласно распространенной в зарубежном правоведении точке зрения, в древнеарабском (доисламском) праве, которое относилось к одной из разновидностей обычного права, положения и нормы, регулирующие вопросы государственного устройства, отчетливо не прослеживаются. Более того, древнеарабская кочевая традиция, неразрывно связанная с коллективным методом принятия важнейших для общины решений, сказалась в дальнейшем на формировании суннитских правых школ, прежде всего в той части, где рассматриваются вопросы формирования органов власти и, самое главное, делегирования полномочий. Как констатируют отечественные исследователи, «зарождение идеологии нового общества, становление институтов его государственной организации сочетались с пережитками мировоззрения и социальными представлениями родоплеменного строя, которые сохранялись в Аравии на протяжении столетий и после принятия ислама. Право принимать решения, касавшиеся группы сородичей или отдельного ее члена, принадлежало коллективу, который передоверял его на выборных началах (выделено мной -Р.А. Минниахметов) одному их своих членов»12. Однако для правовых норм, регулировавших жизнь араба-кочевника до принятия мусульманской религии, было характерно наличие целостной системы
12Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: средневековье и новое время. - М.: Наука, 1993. С.36.

правил, согласно которым строились семейно-брачные отношения, применялись наказания за совершение преступных деяний, велась торговля и осуществлялась предпринимательская деятельность. Безусловно, данные правила так или иначе сказались на процессе формирования исламской правовой доктрины.
В качестве заключения хочется заметить, что фактологический материал, изложенный в данном исследовании, несмотря на свою новизну для российского правоведения, актуален и в силу наличия других причин. Во-первых, как показывает исторический опыт, социальные регуляторы , которые, как известно, могут приобретать форму правовых систем, находятся в процессе тесного взаимодействия на протяжении длительного времени. Исследование механизма их взаимодействия видится чрезвычайно важным, так как понимание данного процесса открывает новые возможности для объяснения и разрешения проблем правопонимания, соотношения государства и права, права и закона и т.д.. Более того, в условиях Российской Федерации исследование проблем взаимодействия норм обычного права с другими социальными регуляторами, возможно, будет способствовать появлению новых, более перспективных и научно обоснованных подходов к вопросу формирования российской государственности. Думается, правы известные в России исследователи обычного права, которые пишут о том, что, «без учета сложившихся веками обычноправовых систем различных этносов и использования накопленного в них позитивного опыта невозможно дальнейшее стабильное существование нашего государства»13. Во-вторых, как это отчетливо прослеживается на примере исламской правовой доктрины, правая система, которая, как говорилось выше, может рассматриваться в качестве социального регулятора, не всегда бывает гомогенной и унифицированной в силу наличия противоположенных по своей сути норм и положений. Шиитская, многое почерпнувшая из древнеиранского права, и суннитская, в которой достаточно отчетливо «слышится» древнеарабский кочевой обычай, формы понимания института государственности является наглядным тому подтверждением. Думается, что причину отсутствия унифицированных норм и положений в рамках одной правовой доктрины или системы права нужно искать именно в механизмах взаимодействия социальных регуляторов. И, наконец, в-третьих, сама постановка вопроса о механизмах взаимодействия социальных регуляторов говорит о том, что правовая система общества должна рассматриваться вкупе со всеми рассматриваемыми регуляторами, или же, иначе говоря, нормами обычного, морального, религиозного, юридического и корпоративного права. Насколько различные виды социальных регуляторов взаимосвязаны друг с другом, настолько можно говорить о праве как синкретизме всех социальных норм.
13Абдуллаев М.Н. Традиционная система права и проблемы нормативного регулирования межэтнических отношений в Дагестане // История государства и права. 2011. №11. С .44.

Список литературы К вопросу о влиянии древнеиранского и древнеарабского права на исламскую правовую доктрину
- Абдуллаев М.Н. Традиционная система права и проблемы нормативного регулирования межэтнических отношений в Дагестане История государства и права. 2011. №11.
- Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т.1. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Высш. шк., 2001.
- Момотов В.В., Свечникова Л. Г. Основы исламского законодательства: учеб. пособие. -Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009.
- EDN: QRQIAH
- Раянов Ф.М. Мусульманско-правовая доктрина и ее современное измерение//Проблемы востоковедения. 2013. №2. С. 8-14.
- EDN: RNEPQJ
- Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: средневековье и новое время. -М.: Наука, 1993.
- Ekinci E. İslam hukuku. -İstanbul: Arı sanat yayınevi, 2006.