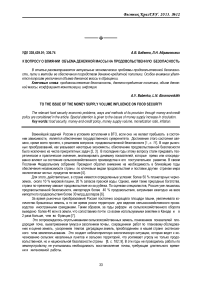К вопросу о влиянии объема денежной массы на продовольственную безопасность
Автор: Бабенко А.В., Абрамовских Л.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные экономические проблемы продовольственной безопасности, пути и методы ее обеспечения посредством денежно-кредитной политики. Особое внимание уделяется вопросам увеличения объема денежной массы в обращении.
Продовольственная безопасность, денежно-кредитная политика, объем денежной массы, коэффициент монетизации, инфляция
Короткий адрес: https://sciup.org/14082883
IDR: 14082883 | УДК: 338,439.01;
Текст научной статьи К вопросу о влиянии объема денежной массы на продовольственную безопасность
Для этого, действительно, в стране имеются определенные условия: более 50 % планетарных черноземов, около 10 % мировой пашни, 20 % запасов пресной воды. Однако, имея такие природные богатства, страна по-прежнему завозит продовольствие из-за рубежа. По оценкам специалистов, Россия уже лишилась продовольственной безопасности, импортируя более 40 % продовольствия, затрачивая ежегодно на ввоз импортного продовольствия более 30 млрд долларов [6].
За время рыночных преобразований Россия постоянно сокращала площади пашни, увеличивала количество брошенных земель, в то же время росли территории для ведения сельскохозяйственного производства иностранными гражданами. Таким образом, за годы реформ из сельскохозяйственного оборота выведено более 40 млн га земли, что сопоставимо почти со всеми используемыми землями в Канаде и в 2 раза больше, чем во Франции [7].
Это сопровождалось опустыниванием сельскохозяйственных земель, понижением показателей плодородия почв, выветриванием гумуса и засолением почвы, сокращением работ по плановому обследованию и оценке земель, ускорением темпов деградации земель, преобладанием в нашей стране экстенсивного типа землепользования. Это создает неблагоприятную экологическую ситуацию, которая ведет к исчезновению сельских населенных пунктов и сельских территорий, что усиливает угрозу не только продовольственной, но и национальной безопасности страны [8, с. 182; 9]. В эти годы не проводились работы по землеустройству, не учитывалась необходимость восстановления почвы, требующая длительного времени и интенсивной работы.
Для решения поставленной Президентом задачи в стране была принята Программа и определены направления развития ведущих отраслей АПК [5]. Важнейшими из них стали: увеличение производства зерна до 115 млн тонн, хотя еще в 1990 году было собрано зерна в России больше (117 млн тонн); увеличение производства мяса в 2020 году до 14,1; этот показатель соответствуют только уровню 1964 г. В 1990 году он составлял 14,9 млн т, когда Россия имела крупное стадо животных, на содержание которого расходовалось до 70–72 млн тонн зерна. В период трансформационных преобразований, рыночных реформ и ликвидации колхозов и совхозов произошло фактическое уничтожение отрасли животноводства и поголовье скота сократилось в 3 раза.
Определенный Программой темп прироста продукции сельского хозяйства в 2 % в год предполагает к 2020 г. достигнуть уровня производства 1990 г. и создать возможность экспорта отечественной продукции за рубеж. Но этот прирост продукции по условиям ВТО не может быть реализован на внешнем рынке, так как для развития экспорта продовольствия необходимо бороться за место на внешнем рынке, на котором существует жесткая конкуренция. Обеспечение равных возможностей конкуренции для наших производителей, находящихся в худших условиях (природных, погодных, технических), чем западные сельхозпроизводители, требует последовательной и постоянной поддержки со стороны государства.
Однако по правилам ВТО такая поддержка товаропроизводителей со стороны государства ограничивается, запрещается проведение протекционистских мер (адресное субсидирование и дотирование). Поэтому группа политиков и ученых требуют пересмотра условий ВТО, то есть защиты внутреннего рынка, внедрения стандартов качества продукции, поддержки небогатых потребителей нашего продовольствия, обеспечения технической помощи производителям, поскольку продовольственная безопасность может быть обеспечена только при технической безопасности АПК.
В связи с этим необходимо прежде всего развитие материально-технологического потенциала, так как техника и технология в сельском хозяйстве формируют себестоимость сельскохозяйственной продукции на 65 %, следовательно, обеспечивают ее конкурентоспособность. На деле мы имеем прямо противоположную картину: энерговооруженность сельского хозяйства сократилась с 419,7 млн л. с. в 1990 году до 114,9 млн л.с. в 2012 году. Техническая вооруженность села сегодня в разы уступает европейским показателям, в частности, средняя мощность российских тракторов составляет 85 л.с. против 230 л.с. в развитых странах. Обеспеченность сельского хозяйства тракторами в странах ЕС в 20 раз, Канаде в 3 раза и США соответственно в 5 раз больше, чем в России [7].
Для обновления изношенной техники необходима модернизация сельскохозяйственного машиностроения, которое к настоящему времени сократило выпуск основных видов техники по сравнению с дореформенным периодом (только тракторов – на 60 %). Количество выбывшей техники не компенсируется приобретением новой, а оставшиеся на селе 70 процентов техники уже выработали технические сроки эксплуатации, в то время как нагрузка на нее увеличилась. Так, с 2006 по 2012 год на один зерноуборочный комбайн увеличилось количество посевов соответствующих культур с 270 до 354 га; кукурузоуборочных – соответственно с 339 до 1115 га; картофелеуборочных – с 36 до 54 га. Все это приводит к тому, что сроки сельскохозяйственных работ растягиваются, потери урожая возрастают. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы закрыто около 30 % сельскохозяйственных предприятий (их количество уменьшилось с 261487 в 2006 г. до 181000 в 2012 г.). На оставшихся предприятиях производительность труда ниже зарубежных и имеет тенденцию к снижению (на 1 работника в США и Канаде приходится в 11 раз больше зерна, чем в России) [6]. Слабой является не только техническая, но и научно-конструкторская база. Раздел Программы, посвященный сельскохозяйственному машиностроению, содержательно декларативен, в нем не запланировано конкретных мер и механизмов по его реализации, не разработаны формы инвестирования и не определены источники их финансирования.
В развитии сельскохозяйственного производства и обеспечении продовольственной безопасности страны трудности в значительной степени связывают, в теории и на практике, с решением финансовых вопросов. Действительно, финансовые ресурсы предприятий АПК крайне ограничены и недостаточны, следовательно, рассчитывать приходится либо на поддержку государства, либо на финансово-кредитные институты. В нашей стране участие государства в стратегических мерах по развитию сельского хозяйства и модернизации АПК является крайне незначительным. В расходах бюджета на сельское хозяйство выделяется около 1%, что не только не способствует развитию и модернизации сельского хозяйства, но и затрудняет традиционное хозяйствование [9, с. 84 ]. В развитых странах объем государственной поддержки сельскому хозяйству выше, он зависит напрямую от уровня доходов страны. В США её размер составляет около 1%, в странах ЕС – 1,3 %, в Японии – 1,4 % валового внутреннего продукта, в России составило менее 0,5 % ВВП [7].
Кроме того, на деятельность сельхозпроизводителей оказывает влияние диспаритет цен, напрямую затрудняя расчет хозяйств по кредитам, за покупку оборудования, и рост доходов в сельском хозяйстве. Диспаритеты цен создают финансовые проблемы между предприятиями, отраслями и секторами экономики внутри страны. Попытка либеральной теории трактовать эти различия в ценах как случайные и временные явления практикой не подтверждается. «Отстающие» отрасли и сектора экономики, даже общественно значимые, попадают в порочный круг, «финансовые ловушки»: нерентабельность и убыточность сельхозпроизводителей ведут к недостатку инвестиций, а это, в свою очередь, не создает возможности модернизации и повышения эффективности производства, что ведет к снижению рентабельности.
В развитых странах имеется опыт поддержания паритета сельскохозяйственных и промышленных цен на основе использования пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции. Так, в США в 1933 г., в разгар Великой депрессии, одним из первых законов, который принял Конгресс, был "Закон о регулировании сельского хозяйства". В нем устанавливалась обязанность государства поддерживать сельскохозяйственные цены на уровне паритета с промышленными ценами. После Второй мировой войны государственная поддержка сельскохозяйственных цен была узаконена в странах Западной Европы и Японии.
Проблема "ножниц цен", возникшая в России в период НЭПа и в 1922 г., также впервые была использована для разработки специальной государственной политики по ее преодолению. Тогда проблема была решена по пути ограничения роста цен на промышленную продукцию, в результате чего к концу 1924 года "ножницы" сомкнулись. Российский и европейский опыт в период НЭПа и американский в разгар Великой депрессии в 1933 г. рассматривали паритет цен не только как способ поддержки крестьян (или фермеров) в трудный период кризиса, но и как важнейший фактор оживления и восстановления всей экономики.
Государственная поддержка товаропроизводителей в России складывается не в пользу отечественных аграриев. К тому же финансово-кредитные институты предлагают кредиты по завышенной ставке процента. По данным различных источников, она доходит до 20–25 % [10–13] в отличие от Запада, где ставки составляют 3–4 %, вплоть до 0 %. Одной из причин высоких ставок процента по кредитам в России называют недостаточное количество (массы) денег в обращении. Разницу цены кредита в России и за рубежом объясняют и другими факторами: целями и характером проводимой государством денежно-кредитной политики. Российская денежно-кредитная политика является, по мнению исследователей, односторонней и носит преимущественно монетарный характер: направлена на уменьшение инфляции и удержание ее на низком уровне [14].
Существующая модель такой политики сводится к тому, что решение по эмиссии денежной массы принимается не пропорционально потребностям и емкости национального рынка, а в соответствии с указанием МВФ, которое диктует национальным банкам норму возможного (допустимого) объема национальных денег. В результате национальная экономика оказывается на жестком пайке при высоких учетных ставках. Чтобы удерживать денежную массу на низком уровне, ведется борьба с инфляцией, для чего используются по преимуществу инструменты денежно-кредитной политики, отрицательно сказывающейся на кредитном потенциале страны. Подавление инфляции осуществляется ограничением предложения денег, а кредитная политика, даже в условиях благоприятной макроэкономической ситуации, не имеет достаточно средств, обеспечивающих выполнение основных функций. Ограничение массы денег в обращении, помимо уменьшения спроса на кредиты, ведет к уменьшению спроса на товарном рынке, сокращает занятость, препятствует росту экономики, воздействуя на объем ВВП, уровень цен, национальный доход и обеспечение экономической безопасности.
Сегодня денежно-кредитная политика государства подчинена обслуживанию интересов капитала, сосредоточенного в руках небольшого числа собственников. Поэтому товарный дефицит, который существовал ранее, превратился в денежный дефицит. Он проявляется в поддержании низкого коэффициента монетизации для России (15–20 %), что примерно в 4–8 раза меньше, чем в развитых странах; находится на уровне развивающихся стран и ведет к замедлению экономического роста, высокой цене денег, сокращению финансовых ресурсов, зависимости от краткосрочных иностранных инвестиций [15–16]. Эти процессы становятся причиной низкой капитализации банков-резидентов, ограниченности внутреннего платежеспособного спроса, ухода ликвидных средств на внешние финансовые рынки.
В международной практике использование показателя монетизации позволяет не только оценить состояние финансовой системы страны в целом, но и выявить тенденцию влияния его на экономику. Возрастание коэффициента монетизации экономики приводит к удовлетворению финансовых потребностей и, как следствие, росту национального производства, формирует всё более крупные, ликвидные средства, массовые финансовые рынки, обеспечивающие перераспределение денежных ресурсов на цели развития. Чем выше темпы экономического роста, тем более объемным и диверсифицированным является денежный спрос, более крупные потоки денежных ресурсов перераспределяются для финансирования экономического развития, тем стабильнее ситуация в экономике, не допускающая искусственного дефицита денег и ограничения инвестиций.
Показатели монетизации, которыми оперируют исследователи, свидетельствуют о том, что развитые страны поддерживают коэффициент монетизации на уровне выше 60 % ВВП, а страны Тихоокеанского региона (так называемые новые индустриальные страны) и страны БРИК (кроме России) имеют коэффициент монетизации экономики, превышающий 60 % ВВП [16, с. 195 ].
В большинстве развитых стран монетизация превышает 80 % ВВП, и, наоборот, развивающиеся и страны с переходной экономикой имеют коэффициент монетизации ниже 60 % ВВП. Современный уровень насыщенности деньгами (финансовыми инструментами, финансовыми активами) мирового экономического оборота стал значительно выше, и даже кризисные процессы в мировой финансовой сфере не остановили эту тенденцию.
Политика финансовой стабилизации, начатая правительством России в 90-е годы, и жесткая денежная политика Банка России привели к экстремально низкому уровню насыщенности российской экономики деньгами, к росту просроченной задолженности, к использованию необеспеченных векселей и бартера. В свою очередь, сужение денежной массы стало предпосылкой внедрения в оборот наличных долларов США как средства расчетов, ослабления процессов капитализации российских финансовых институтов, формирования зависимости внутренней экономики от внешнего финансирования, а финансового рынка – от спекулятивных операций нерезидентов.
Россия, по сравнению с группой из 15–18 индустриальных и 80–100 развивающихся стран, на протяжении последних двух десятилетий имела низкую монетизацию экономики, находясь в худшем положении среди стран развивающегося мира и в существенной мере отставая по этому параметру от индустриальных стран [15, с. 196 ].
Китай, Индия и Бразилия находились в более привилегированных условиях, чем Россия, при большем насыщении денежными ресурсами и более низких темпах инфляции [16, с. 201 ]. Несмотря на низкий коэффициент монетизации, темпы инфляции в России были высокими. В то же время инфляция способствовала утечке «производственного капитала» из страны, что вызывало рост цен, сокращение денежной массы и снижало коэффициент монетизации, уменьшало объем денежных ресурсов. Замедление темпов увеличения денежной массы, по мнению правительства, должно было способствовать снижению инфляции и стать действенным инструментом повышения доверия к национальной валюте.
Связь темпов инфляции и коэффициента монетизации не прямая, в странах с высоким коэффициентом монетизации темп инфляции может быть низким. Поэтому поддержание правительством России коэффициента монетизации на низком уровне и объяснение этого тем, что его повышение может создать препятствие для осуществления социальных программ, приведет к сокращению социальных расходов, уменьшит социальные гарантии и приведет к бюджетному кризису, не обосновано. Реализация подобной денежно-кредитной политики в направлении уменьшения объемов денежной массы и определения потолка валютного курса, как считают сторонники данной позиции, способствует увеличению дефицита денежной массы в обороте, но снижает темп инфляции, хотя в реальности именно это и является тормозом поступательного развития экономики, держит на «голодном денежном пайке» всю экономику России [17–19].
На самом деле существующая высокая инфляция объясняется высокими ценами на продукцию монополизированных отраслей, обуславливающих рост издержек производства во всех отраслях, и бюджетной политикой формирования и распределения, использования финансовых ресурсов между сферами и отраслями хозяйства, а не увеличением денежной массы, которая, по официальным утверждениям, является причиной роста инфляции. Факты свидетельствуют об обратном: государство увеличило количество денег в обращении в 2010 году на 30–50 %, темпы ежегодной инфляции не превысили 10 %, в 2012 году количество денег увеличилось на 40 % , а темпы инфляции снизились до 6,1 %, что значительно меньше, чем темпы роста объема денежной массы. Поэтому действия государства по сдерживанию роста цен должны сводиться прежде всего к борьбе с господством монополий на рынке и во всех сферах общественной деятельности, а не к снижению денежной массы [20].
Применяемые способы борьбы и подавления монетарной инфляции, длительное время направленные на сокращение государственного долга, использовались как механизм создания бюджетного профицита, считавшегося панацеей от «инфляционной болезни», способствующей сокращению денег в обращении, провоцированию «дефицита денег». Все эти меры носили характер «латания дыр заплатками» и не были связаны со стратегическими направлениями денежно-кредитной политики, обеспечивающей суверенитет страны, ее экономическую, и в том числе продовольственную безопасность, определяемую развитием отраслей АПК.
Комплексный анализ состояния продовольственной безопасности страны, включая ее финансовые вопросы, позволяет разработать систему мер, направленных на ее обеспечение. Первым шагом в этом направлении является определение показателей оценки уровня продовольственной безопасности и воздействующих на нее факторов, Следующим шагом является формализация этих показателей, их группировка для процесса выбора стратегии обеспечения продовольственной безопасности.
Существующие официальные показатели оценки уровня экономической безопасности, в том числе и продовольственной, утвержденные Советом безопасности РФ в 1996 г., построены по принципу сравнения состояния экономики России со странами «семерки». Эти показатели не давали возможности оценить пределы зависимости и степень самостоятельности национальной экономики от мировой, поскольку одновременно не могли учесть действие значительного числа противоречивых факторов, обладающих высоким уровнем неопределенности. Поэтому необходимы дальнейшие работы по исследованию системы оценки продовольственной безопасности. На сегодня наметились два направления в решении этого вопроса. С одной стороны, разработка единого интегрального показателя продовольственной безопасности, с другой – выявление системы частных показателей, определяющих высокий, средний и низкий уровень безопасности. Не исключается и третий вариант, утверждающий необходимость тех и других показателей. Они должны использоваться для разных целей исследования проблемы безопасности и оформлены таким образом, чтобы интегральный показатель мог быть представлен функцией от частных показателей. В этом случае оценка с помощью интегрального показателя является базой для решения общих (макроэкономических) проблем, а значение частных показателей послужит основой для выработки направлений в рамках этих общих решений. Интегральный показатель свидетельствует о самостоятельности и независимости в области продовольственной политики и влиянии на нее внешних факторов, а также дает общее представление о состоянии АПК в целом (кризис, критическое состояние или катастрофа). Помимо интегральных показателей, необходимо использовать частные показатели, с помощью которых определяется не только уровень безопасности, но и выявляются причины сложившегося состояния и факторы (внутренние и внешние), инициирующие эту опасность.
Разработка системы показателей продовольственной безопасности представляет собой сложный и последовательный процесс стратегического планирования в развитии АПК, который не представляется возможным изложить в рамках одной статьи. Задача данной статьи – обратить внимание на важность финансового фактора, в частности денежной массы и ее показателя – коэффициента монетизации, поскольку влияние этих факторов денежно-кредитной политики обычно не рассматривается и не учитывается при решении проблем АПК и продовольственной безопасности. В отличие от мировой практики, где уровень насыщенности деньгами (финансовыми ресурсами и инструментами, финансовыми активами) мирового экономического оборота оценивается значительно выше, чем борьба с инфляцией, даже в периоды кризисов эта тенденция сохраняется.
Итак, несовершенство, а порой и неэффективность проведения денежно-кредитной политики, занижение объема денежной массы, приводящее к недостаточности финансового ресурса, вынуждают искать иные, альтернативные подходы финансирования российской экономики. Мировая практика не раз демонстрировала примеры активного воздействия денежно-кредитной политики (в том числе селективной) на развитие реального сектора экономики, социально-экономическую ситуацию в стране.
Изменить сложившуюся ситуацию возможно только в том случае, если регулятор (Банк России) будет осуществлять управление не только финансовыми пассивами, но и реальными активами, приумножая национальные ресурсы страны. Тогда экономика страны не будет находиться под давлением высоких банковских ставок, а население испытывать давление высоких банковских платежей за любые банковские услуги. Для этого России следует осуществлять независимую денежно-кредитную политику; ликвидировать денежный голод за счет дальнейшего повышения коэффициента монетизации, снижения ставки рефинансирования; возрождать малый и средний бизнес, прежде всего в отраслях, обеспечивающих продовольственную безопасность.
Наряду с этим необходимо принять меры по предотвращению ухода денег, а также резервов за рубеж, вкладываемых в экономику других стран под очень низкие проценты, хотя сами берем кредиты под более высокие проценты. Это наносит вред национальной экономике, ведет к утрате безопасности страны.
Таким образом, денежно-кредитная политика, основанная на увеличении объема денежной массы, будет ориентировать товаропроизводителей не на пассивное ожидание субсидий и грантов. Увеличение денежной массы, объема предложения денег, снижение цен на кредиты повысят спрос на деньги, расширят активность малого и среднего предпринимательства, создающего значительный объем экологически чистой сельскохозяйственной продукции, путем роста инвестиций, увеличения занятости населения и производства валового продукта, роста доходов и наполнения бюджета, увеличения доли расходов в нем на социальные нужды. Это, в конечном итоге, будет способствовать обеспечению безопасности и государственного суверенитета.