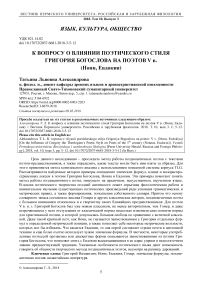К вопросу о влиянии поэтического стиля Григория Богослова на поэтов V в. (Нонн, Евдокия)
Автор: Александрова Татьяна Львовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель данного исследования - проследить метод работы позднеантичных поэтов с текстами поэтов-предшественников, а также определить, какие тексты могли быть ими взяты за образец. Для этого применяется метод комплексного анализа с использованием поисковой системы корпуса TLG. Рассматриваются найденные автором примеры совпадения эпических формул, клише и малораспространенных лексем в поэзии Григория Богослова, Нонна и Евдокии. Эти примеры помогают понять метод работы позднеантичного поэта, пишущего на архаичном, искусственном, выученном языке. В основе поэтического творчества поздней античности лежит серьезная филологическая работа и внимательное изучение существующих поэтических произведений ради усвоения грамматических и метрических правил, а также формирования, пополнения собственного словаря. Притом что основу словарного запаса составляла лексика Гомера и других классических авторов, позднеантичные поэты с большим вниманием относились и к творчеству своих ближайших предшественников. Для поэтов V в. н. э. Григорий Богослов был уже новым классиком, не менее авторитетным, чем Гомер, и даже встречающиеся у него отступления от классической нормы несколько изменили само понятие нормы для христианской поэзии, в которой допускалась большая свобода по сравнению с античной классикой. Даже такой крупный поэт, как Нонн, не гнушается заимствованием у Григория отдельных формул в определенной метрической позиции, а также позволяет себе некоторые метрические вольности, которых мог бы избежать. Что касается Евдокии, то она порой составляет строки почти в центонной технике и еще более охотно использует чужие эпические формулы. В частности, некоторые употребленные поэтессой прозаизмы или диалектные формы оказываются заимствованиями из поэзии Григория Богослова, что позволяет снять с Евдокии высказывавшиеся в ее адрес упреки в недостаточном знании предшествующей традиции. Указанные особенности поэтического языка дают возможность говорить об общности творческого метода позднеантичных поэтов, несмотря на разницу дарований.
Григорий назианзин, нонн, евдокия, гомер, эпические формулы, поздне-античная поэзия, византийская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147226920
IDR: 147226920 | УДК: 821.14.02 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-5-12
Текст научной статьи К вопросу о влиянии поэтического стиля Григория Богослова на поэтов V в. (Нонн, Евдокия)
В европейской культуре Нового времени позднеантичная поэзия воспринималась с большим трудом и скепсисом, поскольку многие ее принципы в корне расходились с новыми представлениями о сущности поэтического творчества, в котором более всего ценились оригинальность, личностность, спонтанность выражения. При взгляде с этих позиций позднеантичная поэзия казалась эпигонской и слабой. Лишь в последние десятилетия наметился перелом и стали делаться попытки понять мотивацию, устремления и эстетические критерии позднеантичных поэтов [Agosti 2012; Witby 2013]. Стало понятно, что их творчество было закономерным плодом перенасыщенной культуры, в которой практически все, что можно было сказать, уже сказано, и новым авторам оставались только изощренная ученость, перекличка смыслов, игра аллюзий, а также освоение новой христианской тематики, однако эти смыслы и аллюзии сами по себе могут представлять большой интерес, а христианская тематика дала новый импульс поэтическому вдохновению. В связи с этим творческие достижения позднеантичных поэтов стали переоцениваться и оценка эта, как правило, смягчается.
В прошлом суровой критики не удалось избежать практически никому из поэтов, даже тем, кто считался значительным, – таковы св. Григорий Богослов и Нонн. Относительно Григория высказывались мнения, что сочинение посредственных стихов было для него своего рода успокоительным аутотренингом, поскольку он страдал депрессией [McGuckin 2006: 194–195; 204]. Нонна, за которым признавалось безупречное версификаторское мастерство, упрекали в вычурности и искусственности [История греческой литературы 1960: 384]. Что касается поэтов менее ярких, таких как императрица Евдокия, то им порой вообще отказывалось в праве называться поэтами. Евдокию упрекали не только в искусственности и вычурности, но и, что особенно оскорбительно для позднеантичного поэта, в невежестве и плохом знании традиции [Cameron 1982: 279; Van Deun 1993: 275].
Частные наблюдения, сделанные в процессе изучения языка поэмы «О св. Киприане», принадлежащей перу Евдокии, и отраженные в данной работе, как кажется, могут быть интересны для лучшего понимания общих принципов работы позднеантичного поэта.
Известно, что эта поэзия вырастала из школы, основной дисциплиной в которой была риторика [Agosti 2012: 373–375]. «Риторизация проявляется в тенденции, как теоретической, так и практической, в соответствии с которой проза окрашивается в поэтические тона и, наоборот, поэзия становится версифицированой риторикой. Заслуживает внимания также влияние школы. По словам Кэмерона, в поэзию человека посвящали “не музы с горы Геликон, но grammaticus в школьном классе”. Здесь, конечно, не имеется в виду то, что многие из этих grammatici были поэтами поздней античности» [Moreschini 1995: 10].
Поэты писали не на том языке, на котором говорили и думали, а на том, который выучили в классе и которым владели с большей или меньшей свободой. Краеугольным камнем античной школы был Гомер. Занятия с грамматиком предполагали чтение с правильной просодией, объяснение литературных приемов, фразеологии; разбор этимологий; выработку правил и аналогий; изучение классической литературы, в ходе которого расширялось представление о языке и приемах поэтического творчества [Cribiore 2001: 185]. Самые успешные ученики по окончании курса обучения могли продолжать ученические экзерсисы уже в качестве самостоятельного творчества.
Лексический запас для собственного творчества поэт набирал, прежде всего, из поэм Гомера, из которых многое заучивалось наизусть. В дальнейшем этот вокабуляр пополнялся за счет позднейших авторов [Faulkner 2012; Maciver 2016], в первую очередь, эпиков, во вторую – трагиков, элегиков и лириков, затем комедиографов и даже прозаиков. Видимо, приветствовалось и собственное словотворчество, особенно создание сложных, витиеватых прилагательных, однако креативная способность авторов была различна. Порой из текста-ресурса заимствовались не просто лексические единицы, но целые стихотворные формулы и клише, иногда – моно-вербальные формулы (отдельные слова в определенной метрической позиции или грамматической форме [D'Ippolito 2016: 372]).
Именно такого рода литературными «упражнениями» занимался св. Григорий Богослов. Для последующей европейской христианской традиции его поэзия представляет собой явление, отчасти маргинальное, – во всяком случае, она не может сравниться по степени известности и влияния с его прозой. Однако важно понять, что для самого Григория такое поэтическое самовыражение представляло первостепенную важность. «Издавая корпус своих сочинений, Григорий… преследовал определенную цель: утвердить свое имя как первого великого христианского поэта; не просто версификатора, но поэта в полном значении этого слова в греческой культуре» [McGuckin 2006: 194; Agosti 2012: 366]. И похоже, что это ему удалось: именно как великого поэта, открывшего новые пути для христианской поэзии, воспринимали его ближайшие потомки.
В настоящее время считается, что на Григория в определенной мере ориентировался Нонн, особенно при создании «Парафраза Евангелия от Иоанна» (см. параллели в изд.: [Simelidis 2009]). «Похоже, что Нонна вдохновляло новаторское употребление Григорием слов и фраз, часто приспособленных для его христианского или автобиографического контекста» [Simelidis 2016: 299]. Многочисленны случаи использования редких слов, свидетельствующие о том, что Нонн знал Григория. Особенно показательны эпические формулы в той же метрической позиции.
Например:
Πατρός τ’ ἀρχεγόνοιο πλάνην, καὶ μητρὸς ἀλιτρὴν (Greg. Naz. Carm. 1360, 10)
(«Древлерожденного отца заблуждение и матери прегрешение»)
и
Τηθύος ἀρχεγόνοιο συνέστιος· ἔνθεν ἱκάνω (Nonn. Dion. 8, 160)
(«С древлерожденной Тефией разделяющий очаг. Оттуда прихожу…»)
Слово ἀρχέγονος («изначальный», «древле-рожденный») редко встречается в поэзии, а именно в эпической форме Gen. sg., – только у Григория, Нонна и более поздних поэтов.
Τίς χάρις, ἢν σὺ πίθηκον ἔχῃς, βροτοειδέα λώβην (Greg. Naz. Carm. 1518, 10)
(«Что за радость, если будет у тебя обезьяна, человекообразное бесчестие…»)
и
εἰ δὲ πέλει θεὸς ἄλλος ἔχων βροτοειδέα μορφήν (Nonn. Dion. 4, 90 et passim)
(«Если же есть другой бог, имеющий человекоподобный вид»)
Слово βροτοειδής («подобный смертному») помимо Григория и Нонна встречается только у поэта-астролога Манефона (Apotelesm. 6, 446), с творчеством которого знакомы оба, но у него употребляется в форме Dat. sg., так что Нонн, несколько раз употребивший форму Acc. sg., скорее ориентируется на Григория.
При этом Нонна в поэзии Григория, по-видимому, не смущали неточности метрики и просодии, поначалу вызывавшие нарекания филологов-классиков. «Несовершенная метрика Григория Назианзина была сознательной и продуманной, – пишет Симелидис. – Возможно, именно она вдохновила Нонна на некоторые поэтические вольности. У Нонна в “Парафрра-зе” есть некоторые неправильные долготы и зияния, которых он мог легко избежать. Как и Григорий, Нонн мог чувствовать, что метрическое совершенство не будет (или не должно быть) созвучно христианскому поэту и его аудитории» [Simelidis 2016: 306]. Григорий Богослов, с одной стороны, раздвинул рамки доз- воленного, по-своему «канонизировав» метрическое несовершенство, с другой – своими неологизмами существенно обогатил лексиче-ско-грамматический ресурс, из которого позднейшие поэты пополняли свой запас с той же скрупулезностью и тщательностью, с какой они имитировали язык Гомера.
Несомненно, с творчеством Григория была знакома и современница Нонна, Евдокия. Сличение лексики ее поэмы «О святом Киприане» с лексикой Григория (при помощи поисковой системы TLG) позволяет сделать как некоторые выводы о влиянии на поэтессу прославленного каппадокийца, так и наблюдения за работой среднего позднеантичного поэта, собиравшего мозаику собственного сочинения из готового запаса словоформ, эпических формул и клише. В качестве маркеров влияния, как и в примерах с Григорием и Нонном, выбраны устойчивые клише и малочастотные лексемы, однако само влияние, несомненно, шире.
В первой же строке ее поэмы обращают на себя внимание формулы, заимствованные у Григория Богослова и Гомера:
Εὖτε Θεὸς γαίῃ φάος ἤγαγεν οὐρανόθι πρό (Cypr, 1)1
(«Когда Бог привел на землю свет с неба»).
Ср.:
Εὖτε Θεὸς θνητός τε κραθεὶς, ἐπὶ γαῖαν ὁδεύσας (Greg. Naz. Carm. 519, 5)
(«Когда Бог, соединенный со смертным, придя на землю…»)
и
ἠΰτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό (Hom. Il. 3, 3)
(«Когда крик журавлей доносится с неба»)
(См. тж.: [Александрова 2018: 316]).
Представляется, что посредством таких аллюзий Евдокия недвусмысленно указывает на авторов, служащих для нее образцом.
Текстуальных совпадений с Григорием Богословом у нее можно найти довольно много, хотя чаще всего оказывается, что оба поэта заимствуют из общего ресурса. Прежде всего, это, конечно, Гомер.
Например:
Ἐκ χθονὸς, ὑμνητῆρα ἐμῶν μενέων τε, νόου τε. (Greg. Naz. Carm. 452, 4)
(«…С земли, воспевающего мои силы и разум»)
и
ὅρκον ;“ ὁ δ’ αὖτ’ ἀπάμειπτο· „ἐ μῶν μενέων κατὰ πάντων (Eudoc. Cypr. 1, 188)
«…клятву. Он же ответил: «Всеми моими силами»)
– общим источником явно имеют гомеровское:
σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς (Hom. Il. 8, 361)
(«Несчастный, всегда злобный, помеха моим силам»).
Видно, что эпическая формула находится в одной и той же метрической позиции. Такие го-меризмы есть у всех поэтов, хотя нельзя исключить и той возможности, что выражение было заимствовано не прямо у Гомера, а через поэта-посредника, особенно если формула перенесена в другую метрическую позицию.
Например, исходный гомеровский вариант таков:
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων (Hom. Od. 19, 562)
(«двое ворот – для бессильных снов»).
У Григория Богослова ἀμενηνῶν стоит в другой метрической позиции:
Εὔξατο·τίς δ’ ἐσάκουσε λιταζομένων ἀμενηνῶν (Greg. Naz. Carm. 407, 7)
(«Молился. Кто же услышал молящихся бессильных».
И у Евдокии та же моновербальная формула стоит в той же позиции, что у Григория Богослова:
ῥέξασκ’ εὖτε κόνιν μορφὰς βρετέων ἀμενηνῶν (Eudoc. Cypr. 1, 244)
(«когда разбил в прах образы бессильных идолов»).
Впрочем, нельзя исключить возможности, что Евдокия самостоятельно перенесла моновер-бальную формулу в ту же позицию, что и Григорий Богослов.
Еще один пример общего заимствования гомеровской формулы, однако похоже, что Евдокия получает ее через посредство Григория.
У Гомера читаем:
δεινὸν δερκόμενοι θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας… (Il. 3, 342)
(«Грозно взирающие. И ужас объял смотрящих»).
У Григория:
Θάμβος ἔχεν μ’ ὁρόωντα τόσον γόνον Ἐμμελίοιο… (AG 8, 162, 1)
(«Восхищение владело мной, когда я видел такое потомство Эммелии»).
И у Евдокии:
θάμβος ἔχεν δέ με πάμπαν, ἐπεὶ μεσίτας ἐσόπωπα… (Eudoc. Cypr. 2, 202)
(«Мной овладело восхищение, когда я увидел посредников»).
Есть у Григория и Евдокии общие заимствования из других поэтов, при этом опять-таки возможно, что Евдокия заимствует не из первоисточника, а через посредство Григория.
Например, слово ἀτασθαλίη, «несчастье», которое у Гомера всегда употребляется во множе- ственном числе, в единственном может быть заимствовано из Гесиода:
φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι (Theog. 209)
(«Сказал, что они простерли [руку], чтобы сотворить великое нечестие»).
Однако в форме винительного падежа и в одной и той же метрической позиции оно используется у Григория и Евдокии:
Εἰ μή μοι στήσειας ἀτασθαλίην τε ῥόον τε Greg. Naz. Carm. 1379, 13
(«Если ты мне не остановишь и несчастье, и поток»),
ἐν φρεσὶ δ’ ᾗσι νόησεν ἀτασθαλίην κακοεργοῦ, (Eudoc. Cypr. 1, 60)
(«В душе она думала о несчастье злодея»).
Некоторые формы Евдокия может заимствовать из Григория через посредство Нонна. Например, у обоих поэтов встречается редкое слово πολυπλανής («многоблуждающий») в форме Gen. Sg.
Само слово можно было заимствовать из разных источников: у Еврипида (Hel. 203), у Платона (Politic 288A), у Евсевия Кесарийского (Prae-par. Ev. 4, 20, 2) и др. У Григория оно употребляется дважды: в Greg. Naz. Carm. 1385, 1:
Οὐδέ πη ἔκβασίς ἐστι πολυπλανέος βιότοιο
(«Нигде нет исхода из полной блужданий жизни»)
– и в Greg. Naz. Carm. 1485, 1, где повторяется формула πολυπλανέος βιότοιο.
Похожая формула есть у Нонна:
ἔργα πολυπλανέος βιοτῆς ἑτερόφρονι λύσσῃ (Demonstr, 5, 115)
(«Дела полной блужданий жизни чуждым безумием…»).
У Евдокии словоформа πολυπλανέος встречается 3 раза:
ἀλλὰ πολυπλανέος τάδε δαίμονος, ἀντιθέων τε (Eudoc. Cypr. 2, 273)
(«но это – [создание] обманщика демона и богоборцев»)
и в той же метрической позиции в Eudoc. Cypr. 2, 383 и Eudoc. Cypr. 2, 418.
Здесь возможны варианты: Евдокия могла заимствовать у кого угодно, включая Нонна (и даже скорее всего именно у него [Александрова 2018а]). Нонн, видимо, заимствует у Григория Богослова, тот мог взять слово из любого предшествующего источника.
Некоторые слова, возможно, принадлежали общему арсеналу позднеантичной поэзии, из которой до нас дошло далеко не все. Например, редкое в принципе, но любимое Григорием слово ἀτρεκίη («истина») до него зафиксировано в Гип-пократовском корпусе, а также у поэта-астролога примерно III в. н. э., Манефона (Apotelesm. 3, 29);
о влиянии Манефона на Григория Богослова см.: [Simelidis 2009, 47]. Кроме того, оно несколько раз попадается у Нонна и в эпиграммах Палатинской антологии. У Евдокии оно также встречается два раза (Eudoc. Cypr. 1, 210 и 2, 447). При этом для Евдокии, учитывая специфику ее поэмы, повествующей об обращении в христианство колдуна и языческого мудреца, интерес к Гиппо-кратовскому корпусу и астрологической поэме Манефона был бы оправдан. Что же до св. Григория, то его знакомство с такого рода памятниками кажется несколько неожиданным (как, впрочем, и тот факт, что он часто цитирует Сапфо [McGuckin 2006: 193]). Однако можно предположить, что поэты с большим интересом воспринимали любые сочинения своих недавних предшественников, из которых могли что-то почерпнуть для себя.
Так, несомненно, большой популярностью пользовались поэмы двух поэтов, сохранившиеся под именем Оппиана, – «О псовой охоте» и «О рыбной ловле» (на самом деле их авторы – два разных поэта [Agosti 2012: 385]). Заимствования из Оппиана встречаются практически у всех позднейших авторов, в том числе у Григория, Нонна и Евдокии. Например:
καὶ ταναοὺς ὄρνιθας ἀπ’ ἠέρος εἰρύσασθαι (Opp. Cyneg. 1, 51)
(«И высоко летающих птиц спустить с воздуха»),
Ἀστεροπὴν φεύγουσαν ἀπ’ ἠέρος . Ἀλλὰ τόδ’ ἔμπης (Greg. Naz. Carm. 536, 5)
(«Молнию, бегущую с воздуха. Но это все же…»),
οὐ δὲ λάθεν Διόνυσον ἀπ’ ἠέρος ἰὸς ἀλήτης (Nonn. Dion. 29, 78)
(«Не скрылась от Диониса по воздуху блуж-даюшая стрела»),
καὶ πινυτοὺς γὰρ ἔτευξεν, ἀπ’ ἠέρος εἰρύσας ἆσθμα (Eudoc. Cypr. 2, 211)
(«и сделал мудрыми, дав дыханье от воздуха»).
У всех авторов сочетание ἀπ’ ἠέρος стоит в одной и той же метрической позиции.
Удалось также найти несколько примеров, которые встречаются только у Григория и Евдокии. Представляется, что Евдокия сознательно ориентируется на поэзию св. Григория, считая его таким же классиком, как Гомер. Ориентацией на него, по-видимому, объясняются и некоторые просодические и лексические вольности ее поэмы, которые исследователи склонны были приписывать ее «невежеству».
Вероятно, у Григория Евдокия берет некоторые прозаизмы:
Νυμφῶνός τε γάμου τε, φίλων τ’ ἀπὸ τῆλε πέσοιμι (Greg. Naz. Carm. 502, 6)
(«Вдали от брачного чертога, брака и друзей я, может быть, паду»),
ὄφρα σὺν ἡμετέρῳ μνηστῷ νυμφῶνα κατείδω (Eudoc. Cypr. 1, 129)
(«Пока не увижу брачный чертог с нашим Женихом»).
Слово νυμφών – «брачный чертог» – употребляется в прозе (ср.: Мф. 9, 15).
Преимущественно в прозе употребляется слово σημήϊον ( ионийская форма слова σημεῖον, «знак»). В поэзии она встречается только у Три-фиодора, Григория Нонна и Евдокии.
Εἴ τοι μηδὲ πυρὸς σημήϊον, ἀλλὰ τάχιστα (Greg. Naz. Carm. 588, 5)
(«Если только не огненное знамение, но быстрее всего…»)
и
νίκησε κρατερῶς σημήιον, ὅττι δέδορκα (Eudoc. Cypr. 1, 137)
(«Мощно победило знамение, которое я видел»).
Трифиодора Евдокия, по-видимому, не знала (во всяком случае, пересечений с ним в ее поэме найти не удалось). Значит, она могла заимствовать слово у Григория или у Нонна, который, в свою очередь, заимствовал у Григория.
Еще один пример. Редкое слово ἁμαρτάς («грех») используется преимущественно в прозе (у Геродота, Дионисия Галикарнасского и других, хотя есть и во фрагментах Эсхила). Однако у Григория оно встречается 4 раза.
Λούσατο, ἀλλ’ ἐκάθηρεν ἁμαρτάδας , ἀλλ’ ἐβοήθη… (Greg. Naz. Carm. 407, 3 – также Greg. Naz. Carm. 455, 10; 996, 6; 1274, 4)
(«Омылся, очистился от грехов, возопил»).
У Евдокии оно употреблено в той же метрической позиции и с той же (буколической) цезурой:
ἐξερέειν, κύδιστε, ἁμαρτάδας , ἅς περ ἔτευξα… (Eudoc. Cypr. 1, 113)
(«Исповедать, о славный, грехи, которые я совершила»).
Видимо, у Григория заимствовано сочетание Χριστὸς ἄναξ (Greg. Naz. Carm. 429, 6), хотя у Евдокии оно употреблено в другой форме:
ὡς Χριστὸν μοῦνον μνηστὸν θεμένη τὸν ἄνακτα (Eudoc. Cypr. 1, 2)
(«Одного Владыку Христа называя Женихом»).
Только у Григория и Евдокии встречаются такие формулы:
Ὥρας, ἄνθεα τερπνὰ, βροτῶν φύσιν, ἠερίων τε (Greg. Naz. Carm. 1526, 12)
(«Времена года, приятные цветы, природу смертных и небесных»)
и
οὐδέ τί με χθονίων πρῆξις λάθεν ἠερίων τε (Eu-doc. Cypr. 2, 77)
(«Не было от меня скрыто ничто из деяний подземных или небесных»)
или:
Δὴ τότε παρθενίη στράψεν μερόπεσσι φαεινὴ (Greg. Naz. Carm. 538, 3)
(«Тогда-то воссияло смертным блистательное девство»)
и
ὄφρα γε φαντασίην μούνην μερόπεσσι φαείνῃ (Eudoc. Cypr. 2, 257)
(«Пока не покажут смертным одно лишь видение»).
Только у Григория появляется слово παρφασίη – «напоминание», «указание», «увещание» (у других авторов встречается παραιφασίη, παραίφασις и πάρφασις):
Δυσμενέος τε δόλος, παρφασίη τ’ ἀλόχου (Greg. Naz. Carm. 894, 2).
(«Козни врага и увещание супруги») и
Ἀλλά σε παρφασίῃσι θεουδέσι πολλὸν ἀρείω (Greg. Naz. Carm. 1453, 3)
(«Но тебя божественными увещаниями намного лучше…»).
В поэме Евдокии оно встречается два раза:
… παρφασίη ·ἀτὰρ αὖτε κατηχήεις λόγος ἀνδρῶν (Eudoc. Cypr. 1, 277;
ср.: Eudoc. Cypr. 2, 369)
(«…увещание. А также огласительное слово к мужам»).
Интересно, что это слово есть даже в Гомеровском центоне, над составлением которого также работала Евдокия:
παρφασίῃ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων (1НС. 37)
(«Увещанием он обманул ум и разумных»).
У Гомера (Hom. Il. 14, 217) в этом месте стоит слово πάρφασις, которое Евдокия заменила в процессе грамматической аккомодации. Повторяется оно и в других редакциях центона.
Итак, рассмотренные примеры позволяют увидеть единство методов, которыми пользовались все позднеантичные поэты. Конечно, «высшим пилотажем» было свободное владение стихом и богатый лексический запас в сочетании с собственной способностью к словотворчеству – то, чем так изобильно творчество Нонна. Менее одаренные поэты чаще прибегали к заимствованиям (так, Евдокия пишет свои стихи порой почти в центонной технике). Однако примечательно, что Нонн, будучи виртуозным мастером слова, отнюдь не гнушался подобным способом пополнения своего поэтического арсенала и с пиететом относился к творчеству Григория Богослова, несомненно, уступающего ему в таланте, что, скорее всего, подтверждает его собственную принадлежность к христианской традиции (хотя он остается и «поэтом муз» [Shorrock: 2011, 78]). Что касается Евдокии, то с нее должны быть сняты упреки в «невежестве», поскольку многое из того, что считалось ее собственным изобретением, или заимствовано у предшественников-христиан, или же она осознанно следует тем принципам, которые были освящены авторитетом св. Григория Богослова.
SPIN-code: 5164-6932
ResearcherID: I-8679-2018
Submitted 08.05.2018
Список литературы К вопросу о влиянии поэтического стиля Григория Богослова на поэтов V в. (Нонн, Евдокия)
- Александрова Т. Л. Византийская императрица Афинаида-Евдокия: жизнь и творчество в контексте эпохи правления императора Феодосия II (401-450). СПб.: Алетейя, 2018. 416 с.
- Александрова Т. Л. Императрица Евдокия -читательница Нонна Панополитанского?//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2018(a). Сер. III, № 55/2. C. 9-19. DOI: 10.15382/sturIII201855.9-19
- История греческой литературы: в 3 т./под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. М., 1960. Т. 3. 438 c.
- Agosti G. Greek Poetry//The Oxford Handbook of Late Antiquity/ed. S. Johnson. Oxford, 2012. P.361-404.
- Cameron A. The empress and the poet: Paganism and Politics at the Court of Theodosius II//Yale Classical Studies, 27. 1982. P. 217-289.
- Cribiore R. Gymnastics of the mind. Greek education in Hellenistic and Roman Egypt. Princeton; Oxford, 2001. 270 p.
- D'Ippolito J. Nonnus' conventional formulaic style//Brills Companion to Nonnus of Panopolis/ed. D. Accorinti. Leiden; Boston, 2016. P. 372-401.
- Faulkner A. Faith and Fidelity in Biblical epos: The Mrtaphrasis Psalmorum, Nonnus and the Theory of Translation//Nonnus of Panopolis in context. Poetry and cultural milieu in late antiquity with a section on Nonnus and the Modern World/еd. K. Spanoudakis. Berlin; Boston, 2014. P. 195-210.
- Maciver C. Nonnus and Imperial Greek Poetry//Brills Companion to Nonnus of Panopolis/ed. D. Accorinti. Leiden; Boston, 2016. P. 529-549.
- McGuckin J. Gregory: the Rhetorician as poet//Gregory of Nazianzus: Images and Reflections/еd. J. Bortnes, T. Hagg. Copenhagen, 2006. P. 193-212.
- Moreschini C., Norelli E. Early Christian Greek and Latin Literature. Vol. 2. Peabody, 2005. 734 p.
- Simelidis Ch. Selected poems of Gregory of Nazianzus. I. 2. 17: II. 1.10; 19, 32: A critical edition with introduction and commentary. Hypomnemata, 177. Gottingen, 2009. 284 p.
- Simelidis Ch. Nonnus and Christian literature//Brills Companion to Nonnus of Panopolis/ed. D. Accorinti. Leiden; Boston, 2016. P. 289-307.
- Shorrock R. The Myth of Paganism. Nonnus, Dionysos and the World of Late Antiquity. London, 2011. IX+181 p.
- Van Deun P. The poetical writings of the empress Eudocia. An evaluation//Early Christian Poetry. A Collection of Essays edd. J. den Boeft, A. Hilhorst. Leiden: Brill, 1993 (Vigiliae Christianae Suppl. 22). P. 273-282.
- Witby M. Writing in Greek//Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity/ed. C. Kelly. Cambridge, 2013. P. 195-218.