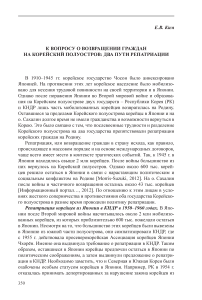К вопросу о возвращении граждан на Корейский полуостров: два пути репатриации
Автор: Ким Е.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521886
IDR: 14521886
Текст статьи К вопросу о возвращении граждан на Корейский полуостров: два пути репатриации
В 1910–1945 гг. корейское государство Чосон было аннексировано Японией. На протяжении этих лет корейское население было мобилизовано для несения трудовой повинности на своей территории и в Японии. Однако после поражения Японии во Второй мировой войне и образования на Корейском полуострове двух государств – Республики Корея (РК) и КНДР лишь часть мобилизованных корейцев возвратилась на Родину. Оставшиеся за пределами Корейского полуострова корейцы в Японии и на о. Сахалин долгое время не имели гражданства и возможности вернуться в Корею. Это было связано с тем, что послевоенные трудности и разделение Корейского полуострова на два государства препятствовали репатриации корейских граждан на Родину.
Репатриация, или возвращение граждан в страну исхода, как правило, происходящее в массовом порядке и на основе международных договоров, чаще всего имеет место в контексте трагических событий. Так, к 1945 г. в Японии находилось свыше 2 млн корейцев. После войны большинство из них вернулось на Корейский полуостров. Однако около 600 тыс. корейцев решило остаться в Японии в связи с нарастающим политическим и социальным конфликтом на Родине [Morris-Suzuki, 2012]. На о. Сахалин после войны и частичного возвращения остались около 43 тыс. корейцев [Информационный портал..., 2012]. По отношению к этим лицам в условиях жесткого соперничества и противостояния оба государства Корейского полуострова в разное время проводили политику репатриации.
Репатриация корейцев из Японии в КНДР в 1950 - 1960 годах. В Японии после Второй мировой войны насчитывалось около 2 млн мобилизованных корейцев, из которых приблизительно 600 тыс. пожелали остаться в Японии. Несмотря на то, что большинство этих корейцев были вывезены в Японию из южной части полуострова, они симпатизировали КНДР, где с 1955 г. действовала просеверокорейская Ассоциация корейцев Японии Чхорён. Именно она выдвинула требование о репатриации в КНДР. Таким образом, оставшиеся в Японии корейцы предпочли остаться в Японии по политическим соображениям, а затем выдвинули предложение о репатриации в КНДР. Необходимо заметить, что и Северная и Южная Кореи были озабочены особым статусом корейцев в Японии. Например, РК в 1954 г. отказалась принимать депортированных за нарушение закона корейцев из
Японии. Это привело к тому, что многие осужденные стали требовать депортации в Северную Корею.
Инициатива репатриации корейцев из Японии в КНДР шла сразу из нескольких источников. В 1953 г. просеверокорейски настроенные корейцы выдвинули желание вернуться в КНДР. И некоторые представители японской власти видели в этом решение проблемы корейских осужденных за нарушение японских законов, а также избавление от обедневших корейцев, которые существовали только за счет социальных пособий. Японское правительство открыто заявляло о высоком уровне безработицы или маргинальной занятости среди корейцев (бильярдный бизнес, незаконное пивоварение, сбор мусора). КНДР же видела в репатриации решении вопроса с осужденными и общее улучшение жизни корейцев, а также расширение влияния корейского сообщества в Японии. Сложность заключалась лишь в том, что Япония опасалась ухудшения отношений с РК и вмешательства США. Однако в 1956 г. японская сторона окончательно убедила власти КНДР в необходимости репатриации, и вплоть до 1959 г. шла подготовка проекта.
Необходимо заметить, что подготовка и осуществление репатриации корейцев из Японии в КНДР последовали практически сразу после Корейской войны 1950–1953 гг. между Севером и Югом. Они шли в условиях идеологического противостояния двух стран. Не последнюю роль в привлечении соотечественников сыграла северокорейская пропаганда. Однако несмотря на маргинальное положение большинства корейцев в Японии, существовала просеверокорейская организация Чхорён, которая не только выступила вдохновителем репатриации, но и консолидировала корейское население.
В итоге, проект репатриации начался в 1959 г с привлечением совет -ских кораблей. Только к 1960 г. на Родину вернулись 49 тыс. чел. Общее число репатриантов за 1959-1984 гг составило свыше 93 тыс. чел. Необходимо заметить, что Ким Ир Сен призывал всех корейцев Японии вернуться в КНДР еще в августе 1958 г. Но этот проект помогал репатриироваться за счет совместных средств Японии и КНДР обедневшим корейцам, не способным нести самостоятельные расходы за переезд [Morris-Suzuki, 2012].
Этот пример показывает готовность КНДР не просто принять обедневших репатриантов из Японии, но и улучшить их статус. В то же время РК, антияпонски и антикоммунистически настроенная при президенте Ли Сын Мане, не просто игнорировала проблему японских корейцев, но и открыто отказалась принимать депортированных соотечественников. Неудивительно, что большинство зарубежных корейцев ассоциировало себя именно с КНДР, ведущей активную пропаганду. В этой ситуации репатриация стала результатом сотрудничества двух государств – Японии и КНДР, а также сообщества корейцев Японии. Таким образом, можно говорить о способности корейцев Японии объединиться в некую общественно-национальную организацию для выражения интересов группы в непростой ситуации послевоенных лет.
Репатриация корейцев о. Сахалин в Республику Корея. Практически во всех официальных документах РК количество корейцев, оставшихся на о. Сахалин после капитуляции Японии, составляет 43 тыс. чел. Данные переписи населения СССР 1959 г. дают приблизительно такой же результат – 42,2 тыс. чел. [Население…, 2011]. Долгое время сахалинские корейцы не имели гражданства ни одной из стран. В связи с пропагандой КНДР и неясностью перспективы возвращения в РК, многие корейцы получили гражданство КНДР. Таких было больше, чем корейцев о. Сахалин с советским гражданством в 1960-е гг. В итоге российское подданство получили практически все сахалинские корейцы, однако с конца 1980-х гг. начался дискурс о репатриации [Ким Хэчжин, 2008, с. 14].
Инициатором проекта репатриации в 1988 г стало южнокорейское отделение Красного Креста. В 1994 г правительства РК и Японии договорились о совместном проведении проекта переселения, а в 1996 г. правительство Кореи в дополнение открыло проект по предоставлению вида на жительство сахалинским корейцам [Пэ Су Хан, 2010, с. 280]. Усилиями Красного Креста с 1989 г. стала действовать программа посещения Кореи сахалинскими корейцами. В 1994 г. в г. Ансан началось строительство дома для первого поколения сахалинских корейцев, финансируемое японским отделением Красного Креста. В результате переговоров были разработаны условия репатриации, а конкретно репатриантами признавались только корейцы первого поколения, мобилизованные на о. Сахалин до 1945 г. С 2008 г. второе поколение корейцев тоже было признано репатриантами. К 2005 г. в дом «Кохянгмаыль» в г. Ансан были репатриированы 1,6 тыс. чел., а по расчетам корейской стороны желали переселиться еще 3 тыс. представителей первого поколения сахалинских корейцев.
Материалы обсуждения закона о репатриации в 2005 г. показывают, что с момента договоренности с японским правительством в 1994 г. и по 2005 г. репатриация осуществлялась очень медленно. Эту задержку связывают с зависимостью от японского финансирования. В 2005 г. обсуждалось предложение увеличить финансирование корейскими силами. По первоначальной договоренности расходы по проекту репатриации должны были взять на себя РК и Япония. Так, Япония финансировала строительство домов для репатриантов, а расходы на переселение и пенсии страны несли совместно.
С начала осуществления программы репатриации и до 2010 г. всего было переселено свыше 3 тыс. чел. в города Инчхон, Ансан, Хвасон, Чхучхон, Пусан и др. Возраст переселенцев составил 65–75 лет. Большинство из них родились на о. Сахалин, но практически все свободно владели корейским языком, т.к. обучались в корейских школах [Пэ Су Хан, 2010, с. 280–295].
По результатам интервью пяти репатриантов дома «Кохянгмаыль» в г Ансан и схожим результатам исследования Пэ Су Хан в районе Чжонк-ван в г. Пусан можно сделать вывод, что большинство переселенцев (76 %) не испытывало ни материальных, ни социальных трудностей при жизни на о. Сахалин. Среди главных причин приезда выделяются «тоска по Родине» и «желание быть похороненным в Корее». Условиями жизни в Корее опрошенные в целом довольны, хотя скучают по о. Сахалин и семьям, поскольку данная программа не распространяется на детей и внуков.
Таким образом, путем ограничения числа репатриантов лицами, проживавшими на о. Сахалин до 1945 г., правительство РК избежало не только проблемы излишне высокого числа репатриантов, но и необходимости проведения широкомасштабных адаптационных программ.
Репатриация в РК, как и вся иммиграционная политика страны, отличается крайней осторожностью и ограничивается минимальным приемом граждан. РК в первую очередь стремится защитить свой рынок труда от массового притока иностранных рабочих, поэтому продумывает каждый шаг в иммиграционной политике страны. Репатриация имеет важный символический характер, демонстрирует заботу государства о бывших соотечественниках.