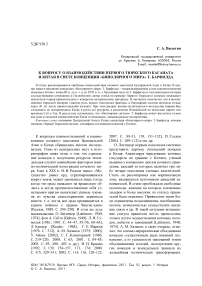К вопросу о взаимодействии первого Тюркского каганата и Китая в свете концепции «Биполярного мира» Т. Барфилда
Автор: Васютин Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия кочевого населения Центральной Азии и Китая. В центре нашего внимания концепция «биполярного мира» Т. Барфилда - генерализированная схема взаимоотношений номадов и Китая с конца III в. до н. э. и до XVII в. н. э. Признавая заслуги Т. Барфилда в систематизации истории сосуществования кочевников и Поднебесной, автор статьи на примере Первого Тюркского каганата показывает недостатки теории применительно к конкретно-историческому материалу. В частности отмечается, что в возникновении тюркской империи главную роль играли эндогенные факторы, а биполярная система возникла только через 20 лет после провозглашения каганата. При этом расцвет военно-политического могущества тюрков был следствием не централизации Китая и роста его ресурсов, а разделения Поднебесной на несколько царств или кризисов Суй и Тан. В результате установлено, что «биполярная система» Т. Барфилда может выступать только как одна из моделей взаимодействия Китая и кочевников, имевшая разные альтернативы.
Кочевники центральной азии и китая, концепция "биполярного мира" т. барфилда, кочевая империя, первый тюркский каганат, специфика его взаимоотношений с китаем
Короткий адрес: https://sciup.org/14737374
IDR: 14737374 | УДК: 930.2
Текст научной статьи К вопросу о взаимодействии первого Тюркского каганата и Китая в свете концепции «Биполярного мира» Т. Барфилда
К вопросам взаимоотношений и взаимо влияния кочевого населения Центральной Азии и Китая обращались многие исследо ватели . Одно из центральных мест в исто риографии занял тезис о том , что стремле ние номадов к получению ресурсов земле дельцев служит важнейшим фактором воен но - политической интеграции кочевого ми ра . Еще в XIX в . В . В . Радлов писал : « Мо гущество диких орд , сгруппировавшихся вокруг князя , может проявиться лишь тогда , когда эти орды нападают на вражескую об ласть и когда противопоставление себя уг нетаемым врагам вынуждает разные племе на из чувства самосохранения держаться вместе , т . е . когда вся орда превращается в единое войскоо с ордами Чингис - хана » [ Радлов , 1989. С . 249–250]. В этом же духе высказывались О . Латтимор [Lattimore, 1940; 1974], фон А . Габэн [Gabain, 1949], Л . Н . Гу милев [1961; 1967. С . 44–47, 55–56, 60–63], Л . Крэдер [Krader, 1968], Г . Е . Марков [1976. С . 312], А . М . Хазанов [1975; 2000], У . Айонс [2002], С . Г . Кляшторный [1986. С . 219–220; 2000. С . 63; 2001. С . 84–85; 2003. С . 93, 490, 492 и др .], Н . Н . Крадин [1992. С . 139, 154–157, 171, 174; 2000. С . 315, 329–331; 2002. С . 114, 116, 120–122;
2007. С . 30–31, 119, 131–132], П . Голден [2004. С . 109–112] и мн . др .
О . Латтимор первым попытался системно представить картину отношений номадов и Китая . Анализируя чередование кочевых государств на границе с Китаем , ученый выдвинул концепцию циклов кочевого прав ления , каждый из которых включал три ли бо четыре поколения степных властителей . Степь он рассматривал как маргинальную зону , являвшуюся источником династий за воевателей . В степи преобладали свободные скотоводы , влияние на которых племенных лидеров и более высоких по статусу прави телей было невелико . Привилегии знати бы ли ограничены подношениями , пастбищами , скотом , возможностью осуществлять внеш ние связи и пр . В такой ситуации возвыше ние статуса правителя могло происходить только путем осуществления военных похо дов , набегов и завоеваний [Lattimore, 1940; 1974]. А . М . Хазанов , в свою очередь , отме чал , что военно - иерархические объединения номадов « существовали ради внешней экс пансии », а от успешности завоеваний этими объединениями соседей , эксплуатации дру гих номадов и земледельцев зависела их дальнейшая политическая трансформация .
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 1: История © С. А. Васютин, 2011
Наиболее развитые государства кочевников А . М . Хазанов связывал со « способностью » кочевой аристократии стать господствую щим классом земледельческого населения [1975. С . 220, 222–224; 2000. С . 457–459]. В целом в обобщающих исследованиях чет ко выражена мысль о том , что усложнение политических структур номадов было воз можно только вследствие включения в ко чевые политии земледельческих анклавов , тесного общественно - политического взаи модействия номадов и оседло - городского населения , формирования устойчивой сис темы поступления земледельческих товаров в степь ( см .: [ Бродель , 1986. С . 101; Флет чер , 2004; Di Kosmo, 1999; Ди Космо , 2008] и др .).
Важные аспекты отношений кочевых и земледельческих обществ позволил рас крыть мир - системный подход . Данная мак - роисторическая теория трактует взаимо отношения земледельческих обществ и номадных объединений как взаимодействие центра , мир - империи ( земледельческое об щество ) и его периферии ( кочевники ). В со ответствии с мир - системной концепцией периферийные общества были весьма огра ничены в способах адаптации к влиянию мир - империй . Исследование подобной сис темы взаимодействия оседлого населения и номадов на примере отношений Китая и ко чевников Центральной Азии в русле мир - системной методологии провел Томас Бар филд [Barfild, 1992; Барфилд , 2004; 2006; 2008; 2009]. Он полагал , что только « экс плуатация экономики Китая » поддерживала существование более или менее устойчивых государственных структур ( имперских кон федераций ) в степи [ Барфилд , 2006. С . 415, 420–431; 2008. С . 16–23; 2009. С . 19–20]. Поэтому исследователь предпочитает гово рить о « биполярном мире объединенного Китая и объединенной степи » как генераль ной цикличной схеме развития региона . В случае кризиса этой системы и упадка централизации в Китае династическая че харда и междоусобицы , охватывавшие Под небесную , вызывали соответствующий кри зис интеграции у номадов ( либо захват ко чевниками северных китайских террито рий ). С восстановлением единства в Китае возрастал и уровень централизации кочевых политий [ Барфилд , 2004. С . 255; 2006. С . 433].
Вне всякого сомнения точка зрения Т . Барфилда оригинальна и вызвала живой интерес со стороны специалистов . Однако рассматриваемый ниже пример взаимодей ствия Первого Тюркского каганата с китай скими царствами середины VI – начала VII вв . показывает , что историческая кон кретика не всегда согласуется с генерализи рованной схемой американского исследова теля и сам он нередко отбирает и анализиру ет только те факты , которые вписываются в его концепцию . Так , Т . Барфилд синхрони зировал рождение тюркской империи с объ единением Китая при династиях Суй и Тан . Подъем экономики Китая , начавшейся , по его мнению , еще до восстановления еди ной империи Суй , стимулировал интеграци онные процессы в степи и привел к возник новению новой фазы « биполярной системы » [ Барфилд , 2006. С . 436–439; 2008. С . 28–29; 2009. С . 20].
Такая трактовка существенно искажает процесс возникновения Первого Тюркского каганата (552–603) и тем самым отрицает специфику генезиса имперских структур у тюрков . Несоответствие концепции Т . Бар филда реальным событиям в Центральной Азии в середине VI в . отмечал А . М . Хаза нов [2002. С . 49–50]. Как полагает автор данной статьи , условия образования кагана та тюрков значительно отличались от об стоятельств появления империи Хунну .
Во - первых , сводить все только к одному внешнему « вызову », как это делает Т . Бар филд , неверно . Без определенных внутрен них условий ( демографический оптимум , сложная этносоцильная структура номад ных сообществ , консолидация племенных объединений , наличие харизматического лидера и т . д .) появление имперских поли - тий было невозможно . Для кочевников не маловажным было подчинение соседних номадов и захват их пастбищ [ Хазанов , 2000. С . 269, 271–272, 275], а также доступ к ресурсам жителей Саяно - Алтая [ Васютин и др ., 2008. С . 49, 58–59].
Следует обратить внимание и на тот факт, что до 572 г. китайские источники не сообщают, предполагали ли договор и династические связи между тюрками и Чжоу выплату дани кочевникам. И утверждать априори, что шелк либо зерно поступали в значительном количестве в ставку каганата при Муган-кагане, нельзя. В хрониках указываются только подарки и дани Муган- кагана западновэйским и чжоуским правителям [Бичурин, 1950. С. 231, 232]. Тюрки в это время определенно предпочитали набеги и грабежи, а не дистанционную эксплуатацию, которую Т. Барфилд рассматривает в качестве главной цели создания кочевых империй. По всей видимости, кагану и его окружению хватало тех ресурсов, которые поступали из подчинившихся владений на севере и западе империи, добычи, захваченной в Китае и в Средней Азии, товаров, попадавших в степь в результате обмена. Немаловажно и то, что тюрки до правления кагана Таспара (Тобо) не создали конкретных форм контроля за племенными группами и союзами, входившими в империю. Довольно ограниченная политика набегов Муган-кагана на земли Северной Ци показывает, что Ашина еще не определилась с основным вектором внешней политики и формами получения прибавочного продукта военно-политическими средствами. Только с развертыванием агрессивной политики против китайских царств при Тобо-кагане потребовались и централизация военных сил, и усложнение политической системы в восточной половине каганата. Именно в период правления Тобо-кагана и его наследников возникла та самая модель отношений номадов и Китая, которую Т. Барфилд назвал «биполярной»: Тюркский каган, осознав мощь своей империи, стал проводить политику запугивания китайских царств с целью получения от них престижных товаров. В результате Северная Чжоу спешно заключила договор о мире и родстве, в соответствии с которым тюрки ежегодно получали 100 000 кусков шелка. Одновременно с этим и правительство Ци стало «истощать свои казнохранилища для платы» тюркам [Бичурин, 1950. С. 233].
Во-вторых, с возникновением Суй интеграционные процессы в степи сменились центробежными. Не случайно, что в 581 г. начался затяжной кризис каганата, закончившийся его расколом. Появление единой Суй стимулировало сосредоточение интересов тюрков в Монголии в основном на китайском направлении, а тем самым подтолкнуло империю к расколу. По существу, мы видим две формы адаптации элит на западе и востоке каганата к событиям в Китае. Восток консолидировался для дистанционной эксплуатации китайских ресурсов, а запад империи сконцентрировался на обеспе- чении согдийской торговли товарами, поступавшими из Китая, и на фискально-пошлинных изъятиях с оседлого населения. Это спровоцировало конфликт интересов между членами клана Ашина, чьи уделы располагались в разных частях империи. Наиболее амбициозные из них (Торэмен, Шету, Кара-Чурин Тюрк, Чулохоу) стремились установить свою власть над всем каганатом и тем самым контролировать как получаемые из Китая товары, так и торговлю ими на трансконтинентальных маршрутах Евразии. Однако смыслом и итогом этих столкновений было оформление двух кочевых политий с различными пасторальными целями в отношении соседних земледельческих обществ.
В - третьих , Первый Тюркский каганат возник , когда в Китае существовали и вели борьбу между собой три царства . Кроме них , в данную междоусобицу были втянуты разные сателлиты ( например , Тогон ), а так же различные этноплеменные группировки в степи . Это в большей степени напоминает алогичную для Т . Барфилда [2004. С . 257– 258; 2006. С . 437–439; 2009. С . 25] ситуацию троецарствия в Поднебесной в момент соз дания Монгольской империи .
В - четвертых , повышение численности населения Китая в середине VI в ., чтобы оно сыграло роль интегрирующего фактора для кочевников , должно сопровождаться подъе мом китайской экономики . Однако такой экономический взлет запаздывал по сравне нию с демографическим ростом и реализо вывался только в едином государстве . Для ситуации середины VI в . важны наблюдения С . А . Нефедова , который показывает , что количественный рост жителей Китая неред ко сопровождался снижением потребления продуктов питания на душу населения [1999]. Поэтому предполагаемое влияние демографического подъема в Поднебесной в середине VI в . на процессы политической консолидации номадов в Монголии следует еще доказать . Кроме того , Китай , разделенный в середине VI в . на несколько соперничающих между собой царств , не мог дать необходимого интеграционного им пульса .
В - пятых , скорее активное вмешательство тюрков в политическую жизнь Китая , набе ги и грабежи , огромные по своим размерам дани , выплачиваемые кочевникам северны ми царствами , способствовали объединению
Китая для решения как внутренних , так и внешних задач . Эффективность восстанов ленного единства империи была налицо . С провозглашением Ян Цзяня первым суй - ским императором в 581 г . Китай прекратил выплаты степнякам . Такие действия китай цев подрывали престиж верховного прави теля тюркской империи и способствовали росту соперничества за власть и распаду Первого Тюркского каганата . Но суйское правительство этим не ограничивается , про водя политику « разделяй и властвуй » уже в самой Монголии . В итоге появляется ма рионеточный каган , а элита Восточно тюркского каганата оказывается в сильной зависимости от Суй . Каган Жангар ( Тули - хан ), оказавшийся на престоле благодаря щедрым китайским дарениям , вместе со своими сторонниками вынужден был рассе литься у границы империи . Утрату культур ных ориентиров восточно - тюркской аристо кратией и племенной знатью наиболее наглядно характеризует праздник , организо ванный суйским императором в 607 г . для Жангара и «3 500 старейшин из его аймака ». В ходе этого визита суйский правитель Ян - ди одарил Жангара шелком , колесницей , верховыми лошадьми , музыкальными инст рументами , знаменами , а Жангар публично преклонил колено перед императором [ Би чурин , 1950. С . 243–245]. Именно так цен трализованная китайская империя в период своего могущества подминала номадов , а отнюдь не способствовала их объедине нию в мощную конфедерацию , как полагает Т . Барфилд .
Консолидация Китая и достижение им наивысшего военно-политического могущества привели к возникновению в степи нескольких конфликтующих группировок, выступлениям зависимых племен, вторжениям в монгольскую степь китайцев и западнотюркских правителей, а тем самым к фактическому разрушению имперских структур тюрков. В этой ситуации заявлять о существовании сколько-нибудь устойчивой «биполярной системы», как это было, например, у хунну и Хань во II в. до н. э., вряд ли уместно. Показательно, что временное усиление Восточного каганата приходится на время кризиса суйской империи и драматичного образования империи Тан. Здесь вновь стоит обратить внимание на демографические показатели, согласно которым в начале VII в. Китай пережил настоящую демогра- фическую катастрофу – сокращение количества крестьянских дворов с 9 до 3 млн [Нефедов, 1999]. Таким образом, именно сочетание демографического и политического кризисов в Китае позволило тюркам на непродолжительное время восстановить свою гегемонию. Однако как только новая тан-ская династия укрепляется при императоре Тай-цзуне, последовал полный разгром каганата с подчинением тюрков Китаю. В связи с этим еще раз подчеркну, что, вопреки мнению Т. Барфилда, в примере с Первым Тюркским каганатом мы наблюдаем обратную историческую динамику: давление кочевников в отношении Поднебесной в период возвышения каганата способствовало интеграции китайского царства, а создание единой китайской империи привело тюркскую империю к расколу, а позднее к ликвидации Восточно-тюркского и Западнотюркского каганатов.
Очевидно, что факторы появления «биполярной системы» в каждом конкретном случае могли различаться и нет никакой необходимости подгонять их под одну модель. Стоит признать, что рождение Первого Тюркского каганата связано не столько с экономическим ростом китайских царств, сколько с ситуацией внутри степи. В период борьбы тюрков с жуань-жуанями и активной экспансии тюрков в Евразии (т. е. на протяжении 20 лет) «биполярная система» так и не оформилась. Только с окончанием западных походов, осознанием кочевой элитой своей силы и необходимости поддерживать существование имперских структур за счет ресурсов земледельцев, возникает система отношений тюрков с Китаем, в общих чертах совпадавшая с характеристикой «биполярного мира» Т. Барфилдом. Однако распространять ее функционирование на все время существования тюркских поли-тий (до 745 г.) было бы неправильно. Деформация данных отношений началась еще после раскола Первого Тюркского каганата. Расцвет Тан и разгром Восточно-тюркского каганата окончательно уничтожили «биполярную систему». Она была восстановлена на короткое время в конце VII – начале VIII в. при Капаган-кагане, но в период правления Бильге-кагана существовала, скорее, как своеобразная политическая иллюзия. Ограниченные ресурсы, поступавшие из Китая в степь, отсутствие контроля над торговыми маршрутами, конфронтация с карлуками и тюргешами – все это показывает, что Второй Тюркский каганат в этот период не мог быть полноценным участником «биполярной системы». Таким образом, «биполярная система» Т. Барфилда, может выступать только как одна из моделей взаимодействия Китая и кочевников.