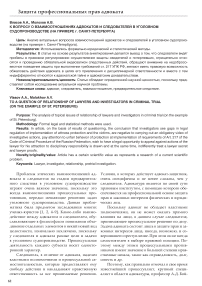К вопросу о взаимоотношениях адвокатов и следователей в уголовном судопроизводстве (на примере г. Санкт-Петербурга)
Автор: Власов Анатолий Александрович, Молохов Александр Владимирович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Защита профессиональных прав адвоката
Статья в выпуске: 2 (33), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель: Анализ актуальных вопросов взаимоотношений адвокатов и следователей в уголовном судопроизводстве (на примере г. Санкт-Петербурга). Методология: Использовались формально-юридический и статистический методы. Результаты: В статье на основе результатов анкетирования делается вывод о том, что следователи видят пробелы в правовом регулировании осуществления защиты свидетелей и потерпевших, отрицательно относятся к проведению обязательной видеозаписи следственных действий, обращают внимание на недобросовестное поведение защиты при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, желают иметь правовую возможность обжаловать действия адвоката в целях его привлечения к дисциплинарной ответственности и вместе с тем индифферентно относятся к адвокатской тайне и адвокатским доказательствам. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку представляет собой исследование актуальной научной проблемы.
Адвокат, следователь, взаимоотношения, предварительное следствие
Короткий адрес: https://sciup.org/140225188
IDR: 140225188
Текст научной статьи К вопросу о взаимоотношениях адвокатов и следователей в уголовном судопроизводстве (на примере г. Санкт-Петербурга)
Проблемы этических взаимоотношений адвоката и следователя на стадии предварительного следствия в уголовном судопроизводстве играют очень важное значение, поскольку это всегда взаимоотношения процессуальных противников, нередко мешающие решению задач уголовного судопроизводства. Данная проблематика была предметом исследования многих ученых-юристов [1, 2, 4–9]. Какое-либо взаимодействие между адвокатом и следователем, обуславливающее в философском понимании объединение отдельных элементов в некий новый вид целостности, изначально исключено, поскольку у следователя и адвоката разные цели и задачи в уголовном судопроизводстве. Процессуальная деятельность каждого субъекта носит односторонний характер.
Следователь, в отличие от адвоката, наделен властными полномочиями и процессуальной самостоятельностью, которые предоставляют ему свободу действия и накладывают нравственную ответственность за все принимаемые решения.
Условия, в которых действует адвокат-защитник, очень специфичны и не менее сложны, чем у следователя. Адвокатура является по своей сути правовым институтом, с помощью которого обеспечивается на профессиональной основе защита прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Поскольку адвокат не обладает властными полномочиями, он не может оказать прямого влияния на лицо, в данном случае следователя, принимающее процессуальное решение по делу. Задача адвоката состоит лишь в защите прав и законных интересов лица, иногда, возможно, и совершившего преступление. При этом он не всегда самостоятелен в выборе правовой позиции. Поэтому между этими процессуальными противниками имеют значение в большей степени нравственные начала, такие как справедливость, долг, совесть и др.
Поэтому, как правильно отмечал в свое время известнейший процессуалист, крупный специалист в области адвокатуры, профессор А.Д. Бой- ков, «нравственным может быть признано только такое поведение (поступок) защитника-адвоката, которое в максимальной степени отвечает интересам обвиняемого и не противоречит интересам правосудия» [3].
В этой связи интерес представляет проведенное анкетирование 186 следователей из восемнадцати районных следственных отделов СУ Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу в марте–апреле 2017 года, результаты которого были озвучены в октябре 2017 года на международной научно-практической конференции «Следствие в России: три века в поисках Концепции», проходившей в Академии Следственного комитета РФ.
Данный опрос проводился на анонимной основе. В анкету были включены вопросы, на которые можно было ответить следующим образом: «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», «нет», «затрудняюсь ответить».
По итогам обработки анкет был получен массив статистических данных, представляющий определенный интерес для науки уголовного процессуального права. При этом во внимание не принимались незаполненные позиции в ответах интервьюируемых, в результате чего в некоторых случаях сумма ответов составила менее 100 %.
Данная анкета для следователей состояла из ряда вопросов. На вопрос «Нужно ли вернуть «принцип объективной истины» в уголовный процесс?» ответы были такие: «да» – 29,7 %, «скорее да, чем нет» – 31,4 %, «скорее нет, чем да» – 11,9 %, «нет» – 12,4%, «затрудняюсь ответить» – 11,9 %.
На вопрос «Считаете ли Вы адвоката лицом, оказывающим помощь следователю в раскрытии преступления?» ответили: «да» – 0,5 %, «скорее да, чем нет» – 1,4 %, «скорее нет, чем да» – 20 %, «нет» – 78,0 %, «затрудняюсь ответить» – 0,1 %.
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы целесообразным выполнение следователем в той или иной степени функции поддержки государственного обвинения в суде по делу, которое он расследовал?»: «да» – 32,4 %, «скорее да, чем нет» – 33,0 %, «скорее нет, чем да» – 12,4 %, «нет» – 20,6 %, «затрудняюсь ответить» – 1,6 %.
На вопрос «Считаете ли Вы достаточным на современном этапе уровень процессуальной самостоятельности следователя?» ответили: «да» – 9,7 %, «скорее да, чем нет» – 17,9 %, «скорее нет, чем да» – 29,7 %, «нет» – 42,2 %, «затрудняюсь ответить» – 0,5 %.
На вопрос «Считаете ли Вы целесообразным введение института следственного судьи в РФ?» ответили: «да» – 6,5 %, «скорее да, чем нет» – 13,5 %,
«скорее нет, чем да» – 17,9 %, «нет» – 48,6 %, «затрудняюсь ответить» – 10,8 %.
На вопрос «Является ли институт адвокатской тайны в его современном виде правовым институтом, существенно затрудняющим раскрытие преступлений на этапе предварительного расследования?» ответили: «да» – 14,1 %, «скорее да, чем нет» – 16,7 %, «скорее нет, чем да» – 27,5 %, «нет» – 39,5 %, «затрудняюсь ответить» – 2,2 %.
На вопрос «Является ли институт тайны следствия в его современном виде правовым институтом, способствующим успешному раскрытию преступлений на этапе предварительного расследования?» ответили: «да» – 18,9 %, «скорее да, чем нет» – 23,2 %, «скорее нет, чем да» – 35,2 %, «нет» – 18,4 %, «затрудняюсь ответить» – 5,0 %.
На вопрос «Считаете ли Вы, что адвокат является полноправным защитником на этапе предварительного следствия вне зависимости от процессуального оформления данного статуса следователем?» ответили: «да» – 24,3 %, «скорее да, чем нет» – 34,6 %, «скорее нет, чем да» – 22,7 %, «нет» – 15,2 %, «затрудняюсь ответить» – 3,2 %.
На вопрос «Считаете ли Вы, исходя из Вашего профессионального опыта, адвокатов «по соглашению» более квалифицированными процессуальными оппонентами, нежели «адвокаты по назначению»?» ответили: «да» – 21,1 %, «скорее да, чем нет» – 23,8 %, «скорее нет, чем да» – 20,0 %, «нет» – 32,4 %, «затрудняюсь ответить» – 2,2 %.
На вопрос «Считаете ли Вы возможным продолжение осуществления защиты адвокатом «по назначению» при наличии адвоката «по соглашению» в ситуации, когда подзащитный отказывается от адвоката «по назначению», а следователь его не отводит?» ответили: «да» – 16,7 %, «скорее да, чем нет» – 9,3 %, «скорее нет, чем да» – 18,9 %, «нет» – 52,9 %, «затрудняюсь ответить» – 2,2 %.
На вопрос «Считаете ли Вы телефонограмму, СМС-сообщения, отправленные адвокатом следователю, надлежащим способом уведомления?» ответили: «да» – 24,3 %, «скорее да, чем нет» – 22,2 %, «скорее нет, чем да» – 20,5 %, «нет» – 30,3 %, «затрудняюсь ответить» – 1,1 %.
На вопрос «Считаете ли Вы допустимым закрепить в законодательстве норму о проведении обязательной видеозаписи следственных действий по ходатайству защиты?» ответили: «да» – 8,7 %, «скорее да, чем нет» – 5,4 %, «скорее нет, чем да» – 17,8 %, «нет» – 63,2 %, «затрудняюсь ответить» – 4,9 %.
На вопрос «Считаете ли Вы существенным нарушением уголовно-процессуального закона на этапе следствия ознакомление защиты с по- становлением о назначении экспертизы одновременно с заключением эксперта?» ответили: «да» – 6,0 %, «скорее да, чем нет» – 22,7 %, «скорее нет, чем да» – 15,1 %, «нет» – 54,1 %, «затрудняюсь ответить» – 1,6 %.
На вопрос «Как Вы считаете, существует ли с точки зрения необходимости соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон в уголовном процессе проблема изначальной ущербности так называемых «адвокатских доказательств» на этапе предварительного следствия?» ответили: «да» – 8,1 %, «скорее да, чем нет» – 24,9 %, «скорее нет, чем да» – 10,3 %, «нет» – 46,5 %, «затрудняюсь ответить» – 7,6 %.
На вопрос «Исходя из вашего профессионального опыта, можно ли говорить о наличии определенных пробелов в правовом регулировании осуществления защиты свидетелей и потерпевших на этапе следствия с точки зрения необходимости соблюдения баланса интересов сторон в уголовном процессе?» ответили: «да» – 42,7 %, «скорее да, чем нет» – 24,3 %, «скорее нет, чем да» – 13,5 %, «нет» – 10,3 %, «затрудняюсь ответить» – 7,0 %.
На вопрос «Считаете ли Вы объективно существующей проблему несовершенства института ознакомления с материалами уголовного дела в контексте возможного недобросовестного поведения защиты при выполнении требований ст. 217 УПК РФ?» ответили: «да» – 63,3 %, «скорее да, чем нет» – 18,9 %, «скорее нет, чем да» – 8,1 %, «нет» – 5,9 %, «затрудняюсь ответить» – 7,0 %.
На вопрос «Должен ли следователь иметь правовую возможность обжаловать действия адвоката в целях его привлечения к дисциплинарной ответственности?» ответили: «да» – 74,6 %, «скорее да, чем нет» – 13,0 %, «скорее нет, чем да» – 5,4 %, «нет» – 4,3 %, «затрудняюсь ответить» – 2,2 %.
Вопросы полноценной интерпретации полученных результатов остаются за рамками настоящей статьи. Во всяком случае обращают на себя внимание стремление следователей к процессуальной самостоятельности и возвращению принципа «объективной истины» в уголовный процесс, неодобрительное отношение к адвокатуре, нередко «мешающей» следователю в проведении расследования.
Таким образом, следователи видят пробелы в правовом регулировании осуществления защиты свидетелей и потерпевших, отрицательно относятся к проведению обязательной видеозаписи следственных действий, обращают внимание на недобросовестное поведение защиты при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, желают иметь правовую возможность обжаловать действия ад- 64
воката в целях его привлечения к дисциплинарной ответственности и вместе с тем индифферентно относятся к адвокатской тайне и адвокатским доказательствам.
Вместе с тем задача любого следователя должна заключаться в том, чтобы не порождать искусственно конфликтную ситуацию с адвокатом, которая автоматически негативно отражается на реализации конституционного права на получение каждым квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ).
Отчасти это еще зависит от того, что уголовно-процессуальное законодательство должно быть более определенным и содержать более четкие указания на негативные последствия для следователя в случае злоупотребления им своими полномочиями на стадии предварительного расследования, что не позволит следователю, в частности, фактически лишать нередко обвиняемого его процессуальных прав, реализуемых при выполнении требований ст. 217–219 УПК РФ.
Не претендуя на полную репрезентативность и понимая всю ограниченность проведенного исследования мнений следователей на примере всего лишь одного субъекта РФ, авторы в целях более объективного анализа усматривают необходимость проведения масштабного социологического исследования (опроса) всех сотрудников системы Следственного комитета РФ, а также адвокатского корпуса РФ в целях оптимизации института предварительного расследования в уголовном судопроизводстве, что будет, на наш взгляд, способствовать правильному регулированию взаимоотношений между адвокатами и следователями при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.
Список литературы К вопросу о взаимоотношениях адвокатов и следователей в уголовном судопроизводстве (на примере г. Санкт-Петербурга)
- Адвокатура России: учебник/под ред. С.С. Юрьева. М.: Юрайт, 2011.
- Бойков А.Д. Третья власть в России (очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 гг.). М., 1997.
- Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978. С. 113.
- Власов А.А. Адвокатура: учебник и практикум. М.: Прометей, 2017.
- Власов А.А. Судебная адвокатура: учеб. пособ. 2-е изд./под ред. Г.Б. Мирзоева. М.: Юрайт, 2012.
- Кучерена А.Г. Адвокатура: учебник. М.: Юристъ, 2004.
- Мирзоев Г.Б., Бойков А.Д., Власов А.А. О юридической науке и научных исследованиях проблем адвокатуры и адвокатской деятельности: науч.-метод. пособ. 2-е изд. М.: Изд. РААН, 2012.
- Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: законодательный, этический, правоприменительный аспекты. М.: Информ-Право, 2009.
- Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации и зарубежных государствах: монография. М., 2012.