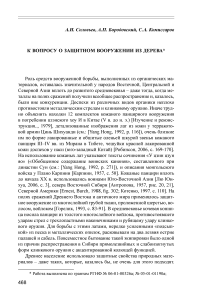К вопросу о защитном вооружении из дерева
Автор: Соловьев А.И., Бородовский А.П., Комиссаров С.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521241
IDR: 14521241
Текст статьи К вопросу о защитном вооружении из дерева
Роль средств вооруженной борьбы, выполненных из органических материалов, оставалась значительной у народов Восточной, Центральной и Северной Азии вплоть до развитого средневековья – даже тогда, когда металлы на полях сражений получили всеобщее распространение и, казалось, были вне конкуренции. Доспехи из различных видов органики неплохо противостояли металлическим стрелам и клинковому оружию. Иначе трудно объяснить находки 12 комплектов кожаного панцирного вооружения в погребении цзэнского хоу И в Китае (V в. до н. э.) [Изучение и реконструкция.., 1979], детализованные изображения лат из кожи у терракотовой армии Цинь Шихуанди (см.: [Yang Hong, 1992, p. 116]), очень близкие им по форме лакированные и обшитые оленьей шкурой звенья кожаного панциря III–IV вв. из Мирана в Тибете, чешуйки красной лакированной кожи доспехов у наси (юго-западный Китай) [Робинсон, 2006, с. 169-170]. На использование кожаных лат указывают тексты сочинения «У цзин цзун яо» («Обобщенное содержание воинских канонов», составленного при династии Сун (см.: [Yang Hong, 1992, p. 271]), и описания монгольского войска у Плано Карпини [Карпини, 1957, с. 50]. Кожаные панцири вплоть до начала XX в. использовались воинами Юго-Восточной Азии [Лю Юн-хуа, 2006, с. 3], севера Восточной Сибири [Антропова, 1957, рис. 20, 21], Северной Америки [Ernest, Burch, 1988, fig. 302; Котенко, 1997. с. 110]. На полях сражений Древнего Востока и античного мира применялось защитное вооружение из многослойной грубой ткани, проложенной шерстью, волосом, войлоком [Горелик, 1993, с. 83-91]. В средневековье кочевая конница носила панцири из толстого многослойного войлока, противостоявшего ударам стрел с трехлопастными наконечниками и рубящему удару клинкового оружия. Для борьбы с этими латами, нередко усиленными «подсыпкой» из песка и металлических опилок, расковывали на два лезвия острие палашей и сабель. Повсеместное бытование такой экипировки было одной из причин распространения в Сибири прямолезвийных и слабоизогнутых форм клинкового оружия с акцентированной колющей функцией.
Древнее население использовало защитные свойства природных материалов – даже таких, которые, казалось бы, не очень для этого подходят.
В этом плане вызывают интерес раскопки жертвенных ям вблизи мавзолея Цинь Шихуанди, где найдено 87 панцирей, 43 шлема и конский доспех, изготовленные из камня [Лю Юнхуа, 2006, с. 26-28]; а также ханьские погребальные облачения из нефритовых пластин [Лу Чжаоинь, 1998, с. 158160]. Тем более понятно, что конструкторы вооружения не прошли мимо возможностей, которые давали материалы растительного происхождения. Традиция использования последних восходит к эпохам, когда защитное вооружение из органики было единственным, и его боевые возможности определяли тактические особенности ведения боя. Даже для средневековья известны находки деревянных щитов древнетюркской эпохи [Овчинникова, 1981, с. 139-140]. Плетеные щиты, упругая поверхность которых отражала сабельные клинки, были широко распространены в монгольское время [Горелик, 1987, с. 196-198]. Тогда же, судя по находкам на плато Укок, изготовлялась «броня» из прутьев, прочно стянутых полосками кожи [Древние культуры.., 1994, с. 127]. Аналогичная фактура панцирной защиты до этнографического времени использовалась в отдельных районах Северной Америки [Котенко, 1997, с. 46, 49, 62, 99]. Панцири из ветвей и волокон ротанговой пальмы были полученные в начале XX в. японским ученым Тадао Сикано у тайваньского племени ямэй. Кираса представляла собой «жилетку» с каркасом из ветвей, заполненным плетением, удерживалась наплечниками и затягивалась впереди; оставляя открытыми руки и нижнюю часть тела. Иногда поверхность панциря усиливалась слоем рыбьей кожи (японского иглобрюха) [Ян Хун, 2005, с. 29-30]. Из ветвей ротанговой пальмы плелись конические шлемы [Yang Hong, 1992, p. 25-26]. Боевые оголовья подобной формы из бамбукового лыка, изготовленные аборигенами Тайваня в XVIII в. хранятся в музее Гугун [Изучение и реконструкция.., 1955, с. 2].
Предметы вооружения из органического сырья в археологических комплексах Сибири могут быть обнаружены на памятниках культур с большим числом массивных бронзовых изделий, окислы которых консервируют органику, а также в районах с благоприятными микроклиматом и почвенными условиями. К числу последних относится Горный Алтай с «замершими» курганами скифского времени. Наличие прекрасной сырьевой базы и уровень развития деревообработки в совокупности с военизацией общества, присущей поздним потестарным структурам, сделали панцири из дерева актуальным и доступным рядовым вооружением. Находки из могил пазырыкской культуры дают неожиданные факты использования деревянных изделий в военной сфере. Имеются в виду цельнодеревянные стрелы, вырезанные вместе с наконечниками из специальных чурочек. Их находили в одних колчанах со стрелами с костяными проникателями [Мо-лодин, 2000, с. 109]. Ни по типу наконечников, ни по технике обработки древка, ни по чистоте выделки эти стрелы не различаются. Цельнодеревянные тупые «томары» хорошо известны по этнографии народов Сибири, использовавших их для добычи пушного зверя. На войне оглушающий удар массивного тупого наконечники помогал обездвижить и захватить противника. Думается, что цельнодеревянные метательные снаряды с острыми гранеными проникателями, выпущенные из композитного лука, даже на средней дистанции представляли реальную опасность для человека. Подтверждение этому дают примеры использования деревянных жердей в воинских состязаниях этнографического времени [Горелик, 1993, с. 63] и применения охотничьих приспособлений, использующих силу упругости согнутого дерева и деревянные острия на движущихся частях, которые, обладая меньшей скоростью движения по сравнению с летящей стрелой, наносили смертельные раны крупным животным.
Действенным средством защиты от таких стрел мог стать панцирь из того же материала. Появление доспехов можно рассматривать как альтернативу щиту, которая позволяла освободить обе руки воина, повысив его боевую мощь, поэтому долгое время на изготовление панцирей шли те же материалы, что на производство щитов. На ранних этапах принципы создания защитной поверхности щита и панциря (равно как и таких элементов защитного вооружения как боевой пояс и нагрудник) чаще всего совпадали. Так, рядами крупных роговых пластин армировалась поверхность и щита, и панциря из погребения Кёрдюген в Якутии [Алексеев и др., 2006, с. 46, рис. 5, 6]. Очевидно по такой же схеме конструировалось защитное вооружение Ростовки [Матющенко, Синицына, 1988, с. 8, 46, 88-89, рис. 8, 10, 61-66]. Одинаковые железные чешуйки составляли покрытие шита и панциря у скифов [Полин, 1984, с. 115-117, рис. 4-6, 10, 11]; по сходному принципу бронировались боевые пояса, набрюшники и прикрытия торса [Горелик, 1984; 1993, с. 138-152]. Хотя такая закономерность не абсолютна, она может помочь при реконструкции защитной поверхности.
Дерево как защитный материал обладает существенным недостатком – способностью раскалываться по структуре волокон. Способов избежать этого, как показывают материалы эпохи раннего железа, было два: один – армирование (дощатой) поверхности подручными материалами, другой – формирование композитной рабочей плоскости из большого числа реек, жердочек, прутьев, плотно стянутых в один блок ремнями или кожаной основой. Примеры последнего дают пазырыкские щиты. Панцири, выполненные в аналогичной технике, судя по этнографическим образцам, представляли собой прямоугольный нагрудник или жилет, несколько превосходящий размерами корпус хозяина [Котенко, 1977, с. 46, 49, 62, 99; Ян Хун, 1980, табл. II]. Смысл такого одеяния – в использовании эффекта инерции, за счет которого свободно свисающий материал гасит силу удара (эффект колокола), а также в возможности использования толстой демпфирующей поддевки. Второй вариант дощатого бронирования известен по материалам тлинкитов, которые из дерева вырезали даже шлемы. Длинные подпрямоугольные дощечки панциря плотно обматывались почти по всей длине тонкими нитями, каковыми они еще и сплетались между собой. Длина их была достаточна, чтобы прикрыть тело от подмышек до талии. Верхнюю часть груди и паховую область 470
закрывал еще один ряд пластин, соединенный с защитой корпуса широкими полосками кожи [МАЭС ТГУ]. Таким образом, получалось легкое, хорошо вентилируемое и теплоотражающее панцирное покрытие, эффективное при защите от основных средств ведения ближнего и дальнего боя того времени. На возможность существования дощатого бронирования указывают как материалы цельнодеревянных пазырыкских щитов, находки дощатых поножей в Туэктинских курганах, так и массивные деревянные пластины воинских поясов, в орнаментике которых можно усмотреть имитацию кожаной обшивки. Использовались деревянные доспехи и в древнем Китае (эпохи Чжаньго), о чем свидетельствует находка в чуской могиле в Тайсингуань. Деревянные пластины, на внешнюю поверхность которых была наклеена кожа, покрытая черным лаком, собирались в панцирь по тому же принципу, что и кожаные, но отличались большими размерами [Чуская могила.., 1982, с. 87].
При дальнейшем расширении ареала исследований памятников раннего железного века есть основания ожидать находок защитного вооружения из дерева, которое при нескольких вариантах кроя (нагрудник, жилет, корсет-кираса) имеет два принципа создания защитной поверхности: «плетеное» из толстых прутьев или жердочек, стянутых кожей или растительными волокнами, и «дощатое» из плашек, оплетенных и соединенных тонкой жильной или растительной нитью.
Алексеев А.Н., Жирков Э.К., Степанов А.Д., Шараборин А.К., Алексеева Л.Л. Погребение ымыяхтахского воина в местности Кёрдюген // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 2. – С.45–52.
Антропова В.В. Вопросы военной организации и военного дела у народов Крайнего северо-востока Сибири // Сибирский этнографический сборник II. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 7–245.
Горелик М.В. Панцирное снаряжение из кургана у с. Красный Подол // Вооружение скифов и сарматов. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 119–121.
Горелик М.В. Ранний монгольский доспех (IX – первая половина XIV в.) // Археология и этнография Монголии. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 163–208.
Горелик М.В. Оружие Древнего Востока (IV тыс. – IV в. до н. э.). – М.: Вост. лит., 1993. – 349 с.
Древние культуры Бертекской долины . – Новосибирск: Наука, 1994. – 224 с.
Карпини Плано История Монгалов // Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубурука. – М.: Гос. изд-во географ. лит-ры, 1957. – 272 с.
Котенко Ю.В. Индейцы Великих Равнин. – М.: Издательск. дом «Техника – молодежи», 1997. – 158 с.
Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1988. – 135 с.
Молодин В.И. Культурно-историческая характеристика погребального комплекса кургана № 3 памятника Верх-Кальджин II // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2000. – С. 86–119.
Овчинникова Б.Б. К вопросу о вооружении кочевников средневековой Тувы // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 132–146
Полин С.В. Захоронение скифского воина-дружинника у с. Красный Подол на Херсонщине // Вооружение скифов и сарматов. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 103–119.
Робинсон Р. Доспехи народов Востока: История оборонительного вооружения. – М.: Центрополиграф, 2006. – 280 с.
Ernest S., Burch Jr. War and trade // Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska. – Washington; London: Smitsonian Instituion Press, 1988. – Р. 227–240.
Yang Hong. Weapons in Ancient China. – New York; Beijing: Science Press, 1992. – 298 p., 57 colour fig.
Лу Чжаоинь. Краткое обсуждение развития и эволюции нефрита, использовавшегося при погребениях при династии Хань // Дунъя юйци [Нефритовые изделия Восточной Азии]. – Сянган: Сянган чжунвэнь дасюэ, 1998. – Т. 2. – С. 158–164.
Лю Юнхуа. Чжунго гудай цзюньжун фуши [Древнекитайская амуниция и обмундирование]. – Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 2006. – 5, 210 с.
Изучение и реконструкция кожаных панцирей и шлемов из могилы № 1 в Лэйгудунь, уезд Суйсянь, пров. Хубэй // Каогу. – 1979. – № 6. – С. 542–553.
Памятники культуры , связанные с историей Тайваня // Вэньу цанькао цзы-ляо. – 1955. – № 5. – 1–4 с. обложки.
Чуская могила № 1 в Тяньсингуань, уезд Цзянлин // Каогу сюэбао. – 1982. – № 1. – С. 71–116.
Ян Хун. Гудай бинци тунлунь [Обзор древнего оружия]. – Пекин: Цзыцзиньчэн чубаньшэ, 2005. – 4, 270 с.
Ян Хун. Чжунго гу бинци лунь цунь [Сборник статей по древнему оружию Китая]. – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1980. – 153 с.