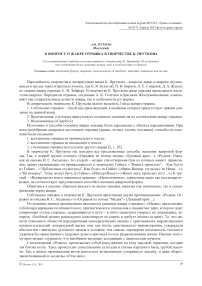К вопросу о жанре отрывка в творчестве К. Пруткова
Автор: Путило Анна Олеговна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (37), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются пародии на жанр отрывок в творчестве К. Пруткова. Исследуются как содержательные аспекты жанра, так и особенности его формы
Жанровая форма, отрывок, неоконченное (d'inachive), пародия, сатирическая поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/14822257
IDR: 14822257
Текст научной статьи К вопросу о жанре отрывка в творчестве К. Пруткова
По тематике данные произведения находятся в границах жанра «отрывок». «Медик» представляет собой пародирование позитивистского, прагматического отношения к пациентам: врач, которого ждет умирающая «тетка сторожа», задерживается в пути – в итоге пациентка умирает, не дождавшись лекарств. «Злобный медик» равнодушно констатирует ее смерть и требует оплаты за визит. То, что цинизм становится объектом пародирования непосредственно связано с христианским мировоззрением авторов-создателей литературной маски, они, как поэты христианского мировоззрения, утверждали абсолютное главенство духовного начала в человеке, тем самым, опровергая возможность телесного здоровья без нравственного здоровья души и критикуя пользу рационализации жизни. Именно поэтому врач назван «лукавым», что неизбежно вызывает ассоциации с дьявольским началом.
Стихотворение «Родное» представляет собой рассуждение на тему высокой гармонии, которая так близка поэту. Здесь происходит сопоставление культуры и стихии народного быта, грубой лексики. Так, в начале произведения автор использует возвышенную устаревшую лексику, и даже оборот, заимствованный из молитвы «Отче наш»:
В борьбе суровой с жизнью душной
Мне любо сердцем отдохнуть;
Смотреть, как зреет хлеб насущный
Иль как мостят широкий путь [4, с. 36] .
Встречаем лексическое противопоставление первой части стихотворения второй. Прием антитезы является сатирическим средством изображения. Внедрение сниженной лексики (леший, прешь, чертов сын, старый врун) в патетическое стихотворение создает комический эффект. Однако лирический герой говорит:
Люблю я слушать русским ухом
На сходках родственную брань [Там же]
Соответственно для него сниженная лексика не разрушает возвышенного тона, что подтверждается также и финальными строками, в которых вновь представлена высокая лексика:
И так друг друга, с криком вящим,
Язвят в колене восходящем [Там же].
Лирический герой «в борьбе суровой с жизнью душной» обращается к грубому крестьянской быту, этот факт становится смысловым центром пародии. Акцент на «русское ухо» и родственность брани приводит нас к мысли о близости поэта к народу, а в сочетании с подзаголовком, указывающим на то, что адресатом стихотворения является И. С. Аксаков, неизбежно вызывает ассоциацию с демократической поэзией и славянофильством.
Обе работы сохраняют специфику оформления жанра. В отрывке из поэмы «Медик» мы наблюдаем отсутствие типичного графического эквивалента при наличии смысловых лакун, в таком случае логический разрыв обозначается многоточиями:
Меж тем в горячке тетка бредит,
Горячкой тетушка больна...
Лукавый медик все не едет,
Давно лекарства ждет она!..
Огнем горит старухи тело,
Природы странная игра!
Повсюду сухо, но вспотела
Одна лишь левая икра...
Вот раздается из передней
Звонок поспешный динь-динь-динь.
Приехать бы тебе намедни!
А что? – Уж тетушке аминь! [Там же].
Более интересный ход находим в стихотворении «Родное» – графический эквивалент на месте пропуска текста:
Вот собралися: «Эй, ты, леший!
А где зипун?» – «Какой зипун?»
«Куда ты прешь? знай, благо, пеший!»
«Эк, чертов сын!» – «Эк, старый врун!»
И так друг друга, с криком вящим,
Язвят в колене восходящем [Там же].
Графический эквивалент, кроме внешних, лежащих на поверхности функций общей недосказанности и неполноты, имеет смыслообразующее значение. Очевидно, обороты просторечной фамильярной лексики заменены знаками для усиления контраста, заданного всем стихотворением: первая часть его дана в возвышенном тоне, а вторая – в сниженном. Следовательно, приоритетными становятся функции цензурно-служебные и сатирико-комического подтекста. Еще одна из формальных черт, характерных для жанра отрывка, – финальное спадающее (завершающее) сравнение, также реализовалась в данном произведении: «И так друг друга, с криком вящим, / Язвят в колене восходящем». Эта фигура художественного синтаксиса контекстуально соотносится с предшествующим ей абзацем и стилистически с первой частью стихотворения, таким образом, спадающее сравнение находится в центре смыслового и структурного целого и является его композиционным стержнем.
Графический эквивалент и спадающее сравнение, по мнению Е.И. Зейферт, являются распространенными формальными признаками жанра отрывка, но встречаются в произведениях К. Пруткова лишь однажды в стихотворении «Родное». Вероятнее всего, причина этого в желании авторов сфокусировать внимание читателя на жанровом своеобразии произведения.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в пародиях, относящихся к первому виду, – собственно отрывку, сатирический акцент смещен в сторону формальных аспектов жанра.
Следующий вид – это произведения, в которых существует косвенное указание на их соответствие жанру отрывка. Отнесем сюда «Выдержки из моего дневника в деревне», «Юнкер Шмидт» и стихотворения с примечанием «из Гейне»: «Память прошлого», «Доблестные студиозусы», «На взморье». Зейферт И. Е. в своей работе «Жанр отрывка в критическом зеркале пародии» указывает на то, что слово «отрывок», может заменяется контекстуальными синонимами – «эпизод», «выдержки», «выписка», подчёркивающими утилитарный характер извлечения части из целого. Встречаем такую замену у Козьмы Пруткова: «выдержки», «как будто из» [1].
Как сказано выше, отрывок может быть вычлененным из иноязычного текста. Соответственно, возникает пародия на фрагментарный перевод какого-либо крупного произведения с приданием ему автономии, здесь таковыми являются «Память прошлого», «Доблестные студиозусы», «На взморье», «Юнкер Шмидт». Стихотворения стилизуются под перевод из немецкой романтической лирики.
Например, в стихотворении «Юнкер Шмидт» дана пародия на образ романтического героя, средством создания которой является говорящая фамилия. Типичная для немецкого мещанства фамилия Шмидт лишает уникальности романтического героя. Не менее интересно отношение автора к проблеме как к абсурдной, юнкер хочет застрелиться поздней осенью, автор переубеждает его:
Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится! [4, с. 14]
Ситуация абсурдна, в произведении не указывается, что причиной попытки застрелиться Шмидта является именно осеннее настроение, но у лирического героя данный факт не вызывает сомнения. О.Л. Чернорицкая в работе «Поэтика абсурда» пишет: «Странные, с точки зрения обыденной логики, поступки литературных персонажей, как правило, результат намерения автора применить метод доказательства от противного, чтобы лишний раз подчеркнуть бессмысленность и «невозможность» идеи, персонифицируемой этим персонажем» [6, с. 58]. Так, прием абсурдного несоответствия является средством сатирического изображения романтического героя и декадентства ему свойственного.
Важной частью для понимания данных произведений с примечаниями «как будто из Гейне» и «тоже, может быть, из Гейне» являются модальные выражения «как будто» и «может быть», в которых заключается оттенок сомнения. Этот факт приводит к выводу, что произведения К. Пруткова – это пародии не столько на Гейне, сколько на его подражателей. Так, Д. А. Иванова, К. М. Корчагин, характеризуя литературную маску, пишут: «Особняком в творчестве Пруткова стоит цикл стихотворений, иронически переосмысливающих отечественные переводы Г. Гейне, особенно популярные на рубеже 1850–1860-х гг. («Память прошлого», «Доблестные студиозусы» и др.)» [3].
Пародии, как и подражания, сохраняют внешние признаки принадлежности к поэзии немецкого романтизма, например: пространство моря в стихотворении «На взморье » (ср. Г. Гейне «Сумерки» («На бледном морском берегу…»), «Очищение» («Останься в морской глубине ты…»), «Гроза» («Тяжко нависла над морем гроза…»)), или мотивы несчастной любви и воспоминая в «Память прошлого» (ср. Г. Гейне «Сумерки» («На бледном морском берегу…»), «Уж вечер надвинуться хочет…» и др.). Не менее ярким формальным признаком, унаследованным от поэзии Г. Гейне, является особый тип рифмовки – чередуются рифмованные и холостые стихи:
На взморье, у самой заставы,
Я видел большой огород:
Растёт там высокая спаржа,
Капуста там скромно растёт [4, с. 27].
В пародиях К. Пруткова отразились следующие процессы: во-первых, небывалый подъем подражательства немецкой романтической лирике в 1840 – начале 1850-х; во-вторых, резкая смена настроений в конце 1850-х – 1860-х гг. Вот, что пишет литературная энциклопедия о восприятии поэзии Гейне в России второй половины XIX в.: «Гейне был близок дворянской интеллигенции этой эпохи именно самой своей двойственностью, колебаниями между старым и новым, разлагающим самоанализом, вершиной которого и была его страшная ирония над самим собой, над романтикой своего чувства. <…> Но вот приходят новые люди; появляется радикальный разночинец. И ему нужен Гейне, но уже другой. Гейне-сатирик, политический поэт, Гейне-публицист, Гейне-мастер сарказма, глашатай освободительных идей, а не болезненно-меланхоличный лирик, близок новой интеллигенции, ибо для нее стали очередными те цели, за которые боролся Гейне – идеолог радикального бюргерства» [7].
Поэтому мы и наблюдаем сюжетно-стилистическое развенчание романтического пафоса в данных стихотворениях. Например, стихотворение К. Пруткова «На взморье» выдержано формально в романтической традиции, но главными его действующими лицами становятся не мечтатель благородного происхождения и юная девушка, а чиновник и огородник. В основе сюжета этого произведения лежит визит чиновника, который интересуется дочерью угрюмого огородника, а заканчивается произведение подчеркнутым снижением:
Стоит огородник угрюмо
И пальцем копает в носу [4, с. 27].
Заметим, в контексте пародии на подражателей немецкому романтизму интересно использование большого количества прозаизмов (неопрятный передник, лейка, капуста и т.д.) и наиболее яркая реализация этого приема – «галоши»:
Намедни к нему подъезжает
Чиновник на тройке лихой.
Он в тёплых высоких галошах,
На шее лорнет золотой [Там же].
Так, предметом сатирического осмеяния в пародиях, которые имеют примечания «из Гейне», является не только стилистика подражаний, но и социально-историческая основа их возникновения.
«Выдержки из моего дневника. В деревне» – это пародия на форму дневника, где события, достойные публикации, заменяются бессмысленными бытовыми деталями. Принципиальной особенностью интимных заметок является возможность отображения переломных моментов в жизни социума и автора в длительной перспективе. В данном произведении важным личным событием – пародийной доминантой дневника – является факт зубной боли, а его фоном – изменение природы, возделывание земли, смена дня и ночи. Сатирический эффект достигается путем предания большой значимости боли в глобальном цикле бытия. Образно-тематическим стержнем стихотворения ставится не духовная, а именно физическая боль, так достигается снижением поэтического тона.
Необходимо обратить внимание и на сочетание патетического и бытового тонов в данном произведении, просторечная лексика легко сменяется возвышенной (ср.: гляжу, навернулися, трескотня и небеса, дерева, меркнет).
По мнению Зейферт, использование формы записок позволяет утрировать факультативный признак жанра отрывка – конкретность датировки [1]. Так, в «выдержках» указывается не только число и месяц, но и погодные условия:
-
28 июля. Очень жарко. В тени, должно быть, много градусов <…>
-
29 июля. Жар по-прежнему… <…>
-
1 августа. Опять в тени, должно быть, много градусов… также дано указание конкретного времени: И девятого лишь в половине
Я без чаю заснул в мезонине.
Данное уточнение повторяется и во второй части:
И лег в девятом половине
Опять без чаю в мезонине [4, с. 50].
Оно изображает размеренность хронотопа деревенской жизни. Возможно выделить несколько типов времени в произведении: историческое, линейное время – даты сменяются вне зависимости от окружающего мира, и циклическое время – природное. Событийное время вокруг описываемого факта зубной боли практически статично, движется только линейное, таким образом, не происходит развитие сюжетной линии дневника. Через свои записи лирический герой неизбежно дает сатирическую самохарактеристику – движения и развития нет лишь в бездарной натуре. Так, предметом пародирование становится графомания и псевдопоэзия.
Обобщая анализ произведений, относящихся ко второму виду отрывков, можно сделать вывод, что предметом пародии становятся модные для общества ХIХ в. явления (декеденство, графомания), примитивное ограниченное мышление, попытка романтизации действительной жизни.
В ходе анализа третьего вида отрывков – неоконченного (d`inachive) – возникает противоречие при рассмотрении его в качестве данного жанра, поэтому приведем обоснование соответствия.
Во-первых, смешение данных понятий мы наблюдаем в предисловии к сборнику «Досуги и пух и перья»: «У меня много неоконченного (d`inachive)! Издаю пока отрывок» [4, с. 6]. В данном фрагменте заявляется синонимия, где общим значением выступает отсутствие определенного итога, окончательного варианта работы. Таким образом, в предисловии определяется траектория для осмысления пародии на исследуемый жанр.
Во-вторых, произведения, находившиеся в процессе написания, издавались в виде отрывков в ХIХ веке повсеместно, и часто крупные формы бывали так и не окончены. Этот факт также стал объектом сатирического пародирования.
Зейферт пишет: «Пародия “лишает” отрывок его константы – стилизованной фрагментарности, всячески объясняя “отрывочность” текста» [1]. Пародия снимает этот эффект посредством комментирования «отрывочности» текста, именно поэтому в творчество К. Пруткова было введено понятие «неоконченного» (d`inachive). Данное обозначение представлено в предисловиях и комментариях к текстам и выполняет функцию прямого диалога с читателем, т.е. направлено на вовлечение третьей стороны в создание произведений. По сути, «неоконченность» является особым приемом создания открытой формы.
Указание на «незавершенность», данное от имени литературной маски, означает недоработан-ность произведения, наличие в нем смысловых лакун. Предполагается, что автор остается недоволен написанным текстом, он не соответствует его представлениям об идеале, так писатели откладывали произведения на позднейшую доработку. Однако данный комментарий получают формально завершенные тексты: басня «Червяк и попадья» и мистерия в одиннадцати явлениях «Сродство мировых сил». Наличие в данных произведениях смысловых лакун не менее спорно, так, например, в басне «Червяк и попадья»:
Слуга стал шарить попадью...
Но что ты делаешь?!» – «Я червяка ловлю» [4, с. 16]
Здесь используется многоточие – формальный признак эллипсиса, но сохранение рифмовки подтверждает целостность формы.
Говоря о незавершенной форме, интересно проанализировать стихотворение, не являющееся жанром отрывка, но имеющее неоспоримую смысловую связь с неоконченным, как недоработанным – «Мой портрет». Здесь даны варианты стихотворной строки – «который наг // на коем фрак». Сатирический эффект достигается не только за счет сопоставления таких противоположных зрительных образов, но и за счет самой возможности выбора между ними. Автор, так и не смог определиться какой из образов выглядит благороднее и какая из строк звучит лучше и привел их обе, избыточный комментарий создал эффект незавершенности произведения. Данный прием позволяет раскрыть замысел создателей образа К. Пруткова. Это образ-пародия на графомана – человека, лишенного литературных способностей и страдающего психическим заболеванием, выражающееся в пристрастии к писательству [5, с. 205]. Термин «психика» происходит от древнегреческого «психея» – душа, следовательно, психические расстройства не всегда следствие физиологических отклонений, так, основой патологии графомана является завышенная самооценка или грех гордости. В поиске сатирического смысла, данного приема, мы приходим к выводу, что комментирование текстов и введение вариативности строк является пародией на романтическую идею недостижимости идеала.
В каждом из проанализированных видов отрывка акцентируются различные характеристики жанра: особенности формы, фрагментарность мышления и идея недостижимости идеала. При рассмотрении этих черт как части целого, становится очевидно, что предметом пародии является поэтика романтизма. Дидактически же жанр направлен на обличение бездуховности модных для общества ХIХ в. явлений – графоманию, декаденство, рационализм.
Список литературы К вопросу о жанре отрывка в творчестве К. Пруткова
- Зейферт Е.И. Жанр отрывка в критическом зеркале пародии//. URL: http://www.stihi.ru/2011/04/06/4490 (дата обращения: 02.07.2014).
- Зейферт Е.И. Жанр отрывка в русской поэзии первой трети XIX века. Караганда, 2001.
- Иванова Д.А., Корчагин К.М. Поэзия московского университета от Ломоносова и до… . URL: http://www.poesis.ru/poeti-poezia/prutkov/biograph.htm (дата обращения: 10.09.2014).
- Прутков К. Плоды раздумья. Избранное//Библиотека на все времена М.: Комсомольская правда, 2006.
- Толковый словарь русского языка: В 3 т.//Т.1: А-М М.: Вече: Мир книг, 2001.
- Чернорицкая О.Л. Поэтика абсурда. Классика. Т. 1 Вологда, 2001.
- Шиллер Ф.П., Лаврецкий А. Гейне // Литературная энциклопедия: В 11 т. // Т. 2. М.: Ком. Акад., 1929. С. 434-453.