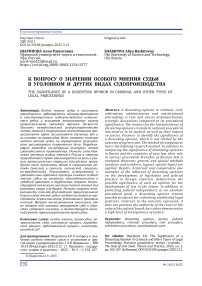К вопросу о значении особого мнения судьи в уголовном и других видах судопроизводства
Автор: Шарипова А.Р.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (81), 2025 года.
Бесплатный доступ
Особое мнение судьи в уголовном, гражданском, арбитражном административном и конституционном судопроизводстве встречается редко и вызывает несоразмерные своему процессуальному значению научные дискуссии. Причины незначительной распространенности особых мнений в современном отечественном процессуальном праве заслуживают изучения, как и их влияние на правосудие. Цель: выявить значение особого мнения судьи, не ограниченное результатом рассмотрения конкретного дела. Определяющим методом исследования выступил метод сравнительного правоведения. Помимо сопоставления значения особых мнений в России и странах прецедентного права анализируется их роль в разных процессуальных отраслях российского права. Кроме того, применены общие и специальные методы (анализа и синтеза, логический, специально-юридический). Результаты: исторические и сравнительно-правовые примеры влияния особого мнения судьи на развитие законодательства и судебной практики в зарубежных странах демонстрируют возможное значение такого мнения для развития права в будущем. Помимо защиты независимости суда как абсолютного процессуального блага особое мнение судьи создает возможные перспективы переосмысления устоявшихся правовых позиций. Вопреки высказываемым опасениям, оно не ставит под сомнение авторитет суда и единство судейской коллегии, а демонстрирует высокий уровень транспарентности правосудия.
Особое мнение, правосудие, независимость суда, уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, конституционный суд
Короткий адрес: https://sciup.org/142245829
IDR: 142245829 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.3.12
Текст научной статьи К вопросу о значении особого мнения судьи в уголовном и других видах судопроизводства
Особое мнение судьи давно и прочно занимает свое место в научной литературе, что, как думается, связано не только с практическим значением особого мнения, но и с некоторым скрытым его правовым смыслом и потенциалом. В России никогда и ни в каком виде судопроизводства особые мнения не были широко распространены. Мы можем назвать только некоторые «всплески» – в практике Конституционного Суда РФ в 1990-х – начале 2000-х годов, например. Конечно, отказ от публикации особых мнений, закрепленный в отраслевом процессуальном законодательстве в разное время, является одновременно следствием и причиной малого числа этих мнений. Наиболее заметные для юридической общественности особые мнения судей Конституционного Суда РФ в связи с принятием Федерального конституционного закона от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"» перестали публиковаться, что вызвало диаметрально противоположные оценки ученых [1].
Редкость высказывания особых мнений
С одной стороны, если особые мнения не обнародуются, то мы не узнаем о самом факте их существования, не говоря об их содержании; с другой стороны, отсутствие перспективы ознакомления с особым мнением сколько-нибудь большого количества людей не мотивирует судей их выражать. Тем не менее, хотя открытых данных о количестве особых мнений нет, мы можем говорить об исчезающе малом их числе в настоящее время.
Если мы задумаемся о том, где можно получить соответствующую статистику, то сразу столкнемся с одной из причин того, почему особых мнений сейчас так мало. В уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах практически нулевая доля дел, рассматриваемых коллегиально в первой инстанции. Что касается апелляционной инстанции, то здесь можно ориентироваться на такие приблизительные соотношения: в арбитражном процессе максимальное количество жалоб на окончательные решения суда первой инстанции рассматривается коллегиально (85 %)1, а в уголовном процессе количество таких коллегиальных рассмотрений минимально (40 %)2. Даже кассационная инстанция, рассматривающая дела в порядке сплошной кассации, не полностью коллегиальна, в уголовном судопроизводстве 35 % решений по результатам пересмотра выносятся единолично3.
Логика такова: чем меньше случаев рассматриваются коллегиальным составом, тем реже суд оказывается в ситуации, когда имеет значение чье-то мнение помимо собственного, когда отсутствует единодушие, когда нужно аргументировать свою позицию перед равными по статусу лицами. А значит, тем меньше в судебной практике особых мнений.
Согласно исследованию И.А. Гизатуллина, в Верховном Суде Республики Башкортостан в 2010–2019 гг. по уголовным делам было составлено два особых мнения [2, с. 143–151]. В последующие годы вплоть до настоящего времени особых мнений не было. Полагаем, что эта статистика сопоставима с федеральной. По весьма приблизительным оценкам, основанным на частоте упоминания особых мнений в текстах судебных актов, размещенных в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», они встречаются по уголовным делам, изредка – по арбитражным, еще реже – по гражданским. По административным делам упоминаний об особых мнениях нам не встретилось.
Итак, особых мнений в России совсем немного. Можно даже предположить, что число научных статей, посвященных особым мнениям, сопоставимо с числом самих особых мнений. И этот феномен привлекает внимание. Но почему маловостребованный практикой институт вызывает активное научное обсуждение? Полагаем, это связано с тем, что за особыми мнениями стоят некие более крупные и, возможно даже, системные проблемы судопроизводства.
Критика и защита особых мнений
В современной отечественной литературе особые мнения подвергаются критике. Например, аргументы против, приведенные Д.А. Лыковым и И.С. Дикаревым в их предметной статье, таковы: особые мнения разрушают единство судебной коллегии, которое ей дóлжно демонстрировать вовне ради поддержания авторитета; особые мнения отчасти раскрывают тайну совещания судей [3].
Противопоставить этому можно аргументы «защитников» особых мнений. Вкратце они выглядят так:
– особые мнения нужны как проявление независимости судей;
– особые мнения помогают вышестоящим инстанциям осуществлять более качественный пересмотр, готовя аргументы для отмены решений.
Дополнить этот перечень мы хотели бы собственными аргументами. При этом отдельно нужно подчеркнуть, что значение особого мнения заключается в том, что оно не исчерпывается и даже не определяется судьбой того дела, по поводу которого высказано. Если бы особое мнение было только мнением по настоящему делу, то не имело бы смысла в его изложении судьей, рассматривающим дело в последней инстанции, ведь адресовать его уже некому. То же касается особых мнений судей Конституционного Суда РФ. Как сказал более 100 лет назад председатель Верховного суда США Ч.Э. Хьюз, «особое мнение, высказанное в суде последней инстанции, – это апелляция к разуму будущего».
Вообще в практике США, думается, наибольший опыт особых мнений и к нему имеет смысл обратиться на одном только этом основании. Сразу оговоримся, что не стоит экстраполировать комплименты развитости особых мнений на все процессуальное право или тем более политический строй США. В определенные периоды именно особые мнения в США содержали новаторские идеи о политических, гражданских и социальных правах и спустя какое-то время были приняты большинством в судейских коллегиях, а некоторые послужили причиной изменения законодательства [4]. Были в истории этой страны судьи,
«специализирующиеся» на особых мнениях. По итогам их профессиональной деятельности издавались целые сборники таких мнений. Высказанное и опубликованное особое мнение могло опережать свое время, но оно воздействовало на общество, готовило почву для перемен. Ради справедливости отметим, что большинство «прорывных» особых мнений, о которых мы сейчас говорим, являлись новаторскими только относительно того, на фоне чего они составлялись. Это особые мнения, посвященные исключению расовой сегрегации в образовании, семейных отношениях, отправлении религиозных обрядов, на транспорте, в общественном питании и т. п., то есть долгому процессу изживания позорной доктрины separate but equal. Большое значение для будущего реформирования законодательства имели и особые мнения судей Канады [5].
Значение особых мнений для правопорядка в целом
В каком-то смысле описанные выше особые мнения напоминают научные работы – они выглядят во многом идеалистически для своего времени, но вполне могут быть «пророческими». Прецедентная система, разумеется, гораздо в большей степени располагает к свободному высказыванию судом идей «для будущего», чем та, где роль суда строго ограничена рассматриваемым здесь и сейчас делом. Судебное нормотворчество, характерное для прецедентной системы, требует некоторых свойств, которые мы, находящиеся вне этой системы, ожидаем более от законодателя, чем от суда. Так, большое количество особых мнений судей Верховного суда США относительно других судов страны американские юристы объясняют сборным характером Верховного суда, объединяющего в своем составе специалистов из разных регионов большой страны, представляющих разные социальные группы и, что интересно, юридические школы [6, с. 210]. Параллельно они признают, что право – это наука мнения, а не точная наука, а значит, особые мнения могут быть верны с той же вероятностью, что и решения, поддержанные большинством. Именно это ключевое отличие от континентально-европейской правовой системы России и объясняет «не- развитость» в ней института особых мнений. Конечно, мы можем отметить и другие причины и факторы, которые предопределяют распространенность особых мнений. Не последнюю роль в этом играет все возрастающая нагрузка на российских судей, которая с трудом позволяет им даже исполнять свои обязанности (готовить тексты решений), не оставляя времени, сил и вдохновения на то, чтобы пользоваться своими правами – готовить тексты особых мнений при несогласии с большинством в коллегии. Анкетирование, проведенное нами, показало, что регулярно рассматривающие уголовные дела в составе коллегий судьи зачастую (от 10 до 50 % случаев) имеют мнения, не совпадающие с мнением большинства, однако ни один из них не составлял в связи с этим особого мнения.
У нас есть предположение, основанное на наложении психологических закономерностей человеческого общения на современные отечественные судоустройственные традиции, которое это объясняет. Как правило, судебные составы стабильны, то есть постоянно коллегиально рассматривающие дела судьи делают это в основном с одними и теми же коллегами, с которыми у них возникли определенные отношения, обычно более близкие, чем с остальными. Даже однократное составление особого мнения в этих условиях может поменять сложившуюся в коллективе обстановку, и не все судьи готовы к этому ради некой абстрактной своей правоты.
Если особое мнение судьи не может иметь значения для других дел, помимо рассматриваемого, то практика сведет на нет его существование, поскольку и процессуальное значение особого мнения очень невелико.
Доступность текстов особых мнений
Останавливаясь на аргументах против раскрытия особых мнений (что, как нам кажется, одновременно является и аргументами против их составления), отметим следующее.
Умаляется ли авторитет суда, если общественность, включая стороны спора, узнает об отсутствии в коллегии единодушия по принятому решению? Нет, потому что авторитет, основанный не на властной силе (а она от особых мнений никак не страдает), а на признании высокого профессионализма и справедливости, только укрепляется, если суд демонстрирует честность и прямоту, способность признавать ошибки и доступность для критики.
Справедливо ли предположение, что проигравшая сторона была бы убеждена решением суда в своей неправоте, если бы не особое мнение, а оно только разжигает пожар, который иначе был бы потушен? Нет, потому что любое решение пишется лишь с такой степенью подробности, чтобы убедить нейтральную общественность, а не проигравшую сторону. Для нее следовало бы отвечать на всю массу мелких аргументов подробными отповедями, чего не может себе позволить ни один суд. И скорее всего, цель убеждения проигравшей стороны не могла бы быть достигнута никакими доступными суду средствами. Кроме того, факт составления особого мнения – прямой сигнал проигравшей стороне, что дело рассмотрено подробно и детально, а не явилось решением одного судьи, слепо и безразлично поддержанным остальными.
Влияет ли на восприятие законодательных норм общественностью то, с каким перевесом парламентское большинство приняло соответствующий акт? Или люди все же воспринимают содержание норм исходя из своего личностного уровня и интересов? Чем принципиально отличается восприятие судебных актов? Все одинаково должны подчиняться законодательным и судебным актам независимо от того, какой степени единодушия придерживались те, кто их принимал. А вот разделять идеи, которые в них заложены, каждый будет или не будет уже по другим причинам.
Наиболее важная процедурная составляющая института особого мнения – это решение вопроса о его раскрытии. Любые ограничения в отношении открытости особых мнений, по сравнению с открытостью текста судебного акта, поддержанного большинством, показывают страх перед особыми мнениями и их завуалированное неодобрение.
Особое мнение существует только в виде мотивированного документа, это не просто факт несогласия кого-то из судей с мнением большинства. Для чего же законодатель исторически давал право выражать мотивированное несогласие, если не для того, что- бы анализировать мотивировку? Противники публикации особых мнений придают максимальное значение факту несогласия судьи и минимальное – его аргументам. Почему? Единодушная, но не правая по сути коллегия имеет какую-то процессуальную ценность?
Распространенность, значение и восприятие особых мнений различаются в разных отраслях. Наиболее известны в России особые мнения судей Конституционного Суда РФ; несравнимо реже это происходит в отечественных судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Довольно часто высказывают особые мнения судьи ЕСПЧ.
Конституционные суды не только и не столько разрешают юридические споры, сколько предопределяют нормотворчество, их отличие от остальных судов понятно. Вопрос в том, почему это увеличивает их активность по составлению особых мнений. Думается, что такие закономерности связаны с нерядовым положением конституционных судов или ЕСПЧ в соответствующих государственных и надгосударственных судебных системах. Авторитет конкретного высокого суда заранее оправдывает право его судей на собственное мнение, предполагает наличие интереса к содержанию этого мнения и его возможный научно-исследовательский потенциал.
Другая предполагаемая нами причина склонности Конституционного Суда РФ (по крайней мере до 2020 г., когда мы можем об этой склонности судить) и ЕСПЧ к относительно частому высказыванию особых мнений в отсутствии соответствующих развитых и обособленных процессуальных отраслей права, которые бы регламентировали судопроизводство в этих судах. Уровень детализации регулирования процессуальной деятельности Конституционного Суда РФ или ЕСПЧ несопоставим с судами общей юрисдикции или арбитражными судами. Чем более подробна и императивна соответствующая процедура, тем более отчетливо отсутствие большого процессуального значения особых мнений, а значит, меньше смысла в его составлении.
Конечно, самое главное, что суды, подобные Конституционному Суду РФ или ЕСПЧ, понимают свою миссию, которая заключается в большей степени не в решении одной ситуации, имеющей значение только для конкретных лиц, а в создании общественно значимого правового «контента». Но ведь и Верховный Суд РФ, рассматривая дела в порядке выборочной кассации и особенно в порядке надзора, как правило, руководствуется необходимостью корректировать судебную практику. Однако в его процессуальной деятельности видимого единодушия гораздо больше.
Заключение
Отношение к особым мнениям во многом политизировано, а некоторые ученые считают их оформление проявлением политической активности судей. Однако помимо связей особых мнений с политическим строем страны не следует игнорировать и общечеловеческое значение плюрализма мнений как необходимого условия развития любой науки и практики.