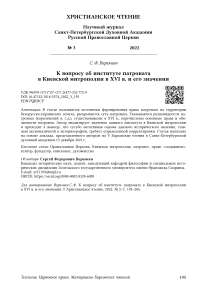К вопросу об институте патроната в Киевской митрополии в ХVI в. и его значении
Автор: Веремеев Сергей Федорович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье называются источники формирования права патроната на территории белорусско-украинских земель, раскрывается суть патроната. Указываются разновидности патроната (королевский и т. д.), существовавшие в ХVI в., перечислены основные права и обязанности патронов. Автор анализирует значение данного института в Киевской митрополии и приходит к выводу, что сугубо негативная оценка данного исторического явления, ставшая аксиоматичной в историографии, требует определенной корректировки. Статья написана на основе доклада, представленного автором на V Барсовские чтения в Санкт-Петербургской духовной академии 13 декабря 2021 г.
Православная церковь, киевская митрополия, патронат, право «подаванья», ктитор, фундатор, епископат, духовенство
Короткий адрес: https://sciup.org/140295637
IDR: 140295637 | УДК: 94(470+571)"15"+271.2(477-25)-772-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_195
Текст научной статьи К вопросу об институте патроната в Киевской митрополии в ХVI в. и его значении
История Православной Церкви на территории Беларуси и Украины издавна привлекает внимание исследователей, как светских, так и церковных. Ей посвящено множество научных трудов, на страницах которых рассматривается широкий спектр сюжетов, начиная от Крещения Руси и заканчивая современным положением православия в указанных странах. Особый интерес в этом плане представляет ХVI в. — время Реформации, возникновения книгопечатания, образования Речи Посполитой, эпоха, завершившаяся одним из главных событий в истории христианства Восточной Европы — Брестской церковной унией. Одной из отличительных особенностей правового положения Православной Церкви в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой в ХVI в. являлось существование системы т. н. патроната, которая достигла именно в ту эпоху пика своего развития. Патронат неоднократно становился предметом изучения в историографии, при этом среди историков наблюдается консенсус в отрицательных оценках этого явления. Ознакомление с источниками, однако, дает основание поставить под сомнение общепринятую точку зрения.
В данной статье мы предприняли попытку проанализировать значение патроната в Киевской митрополии. Для достижения данной цели необходимо рассмотреть, в чем заключалась суть патроната и каковы были его разновидности, какими правами обладали патроны и какие обязанности при этом на них возлагались. Одновременно важно проследить на основании доступных источников особенности функционирования этой системы в реальности.
Основная часть
Институт патроната на белорусско-украинских землях восходит к ктиторскому праву Византии, которое он во многом напоминал1. Наряду с византийским кти-торством источником формирования одной из составляющих патроната — права «подаванья» (о нем речь пойдет ниже), исследователи называют каноническое право Западной (Латинской) Церкви, а также особенности устройства Польско-Литовского государства [Скочиляс, 2011, 101]. Отметим, что в Западной Церкви патронат (jus patronatus) возник в XII в. в годы понтификата папы Александра III (1159–1181) и в последующем приобрел важное значение, регулируя взаимоотношения между светскими людьми (лаикатом)2 и духовенством в различных странах Европы [Скочиляс, 2011, 105; Gaudemet, 1998, 710–720; Szady, 2003, 5–7].
По определению И. Чистовича, патронат на белорусско-украинских землях включал следующие формы: право «подаванья» (jus donandi); право презенты (jus prаеdendi, jus prаеsentationis) — представление или рекомендация кандидатов на церковные должности (священников, настоятелей); право управления церковными учреждениями и участия в церковном суде; право попечения или покровительства (jus patronatus) [Чистович, 2014, 295–296].
В историографии истоки права «подаванья» обнаруживают уже в эпоху Древней Руси [Владимирский-Буданов, 1907, 57; Флоря, 2007, 59; Скочиляс, 2011, 101]. Дальнейшее свое развитие оно получило в период Великого княжества Литовского.
Право «подаванья хлебов духовных» подразумевало право монарха назначать («подавать») на церковную должность своего кандидата, который затем должен был получить благословение правя щего епископа3. В ХVI в. король (великий князь)
назначал также и епископов на церковные кафедры (участие митрополита при этом было лишь формальностью) [Флоря, 2007, 48] и даже самого киевского митрополита [Дмитриев, 2003, 31]. «Право подаванья» распространялось на королевские земли, где монарх назначал настоятелей важнейших церквей и монастырей, а его наместники и старосты — настоятелей сельских церквей и менее значимых обителей. Король мог осуществлять право подаванья и в городах [Ульяновський, 1994, 174]. Одновременно он мог низлагать и наказывать епископов, настоятелей монастырей и священников [Дмитриев, 2003, 37].
Монарх также обладал правами «jus regalium» и «jus spolii». «Jus regalium» — это право монарха пользоваться доходами кафедры в период от смерти епископа и до назначения его преемника. «Jus spolii» позволяло королю конфисковать в свою пользу имущество, оставшееся после кончины епископа [Флоря, 2007, 40]. Названными правами монарх владел вплоть до конца XVI в. [Ульяновський, 1994, 175].
Однако уже в период ХIV–ХVI вв. право «подаванья хлебов духовных» наряду с монархом приобретает шляхта [Скочиляс, 2011, 103]. Л. Тимошенко высказал гипотезу, что в ХVI в. в ее «подаванье» находилось более половины всех приходов Восточной Церкви [Тимошенко, 2017, 158]. Одним из путей формирования частновладельческого патроната являлись королевские (великокняжеские) пожалования [Владимирский-Буданов, 1907, 90]. Князья, земяне, бояре получали во владение земли, которые затем переходили в их собственность, и, соответственно, приобретали право назначать священников в церкви, находящиеся на этих землях. Кроме того, землевладелец мог основать церковь (или монастырь) на своей территории и передать ему какое-либо имущество или земли, что сразу же превращало церковь (монастырь) в частную собственность, а основатель (ктитор или фундатор)4 становился патроном церковного учреждения и получал право «подаванья», которое переходило по наследству его преемникам.
Церковные должности можно было получить за военные и государственные заслуги, в качестве награды за службу [Ульяновський, 1994, 182; Довбищенко, 2008, 176]. Их получение считалось хорошим завершением жизни. Так, известный мемуарист Фёдор Евлашевский в 1573 г. выхлопотал для своего овдовевшего отца Пинскую православную кафедру [Лісейчыкаў, Бобер, 2018, 15]. Церковные учреждения можно было не только передавать в наследство как феодальную собственность, но и продавать, менять, дарить, отдавать в аренду или под залог, они могли выступать в качестве приданого. Например, владелец Кобрина Иван Семенович в 1479 г. передал во владение попу Якову и его потомству Пречистенскую церковь [Ульяновський, 1994, 177]. В 1580 г. князь Чарторыйский отдал в залог монастырь Честной Крест, находившийся во Владимирском повете, пану Иваницкому за 400 коп грошей [Чистович, 2014, 298].
Одной из разновидностей частновладельческого патроната являлся коллективный патронат шляхты или боярства над церквями или монастырями. Например, в Полоцке в 1559 г. патронами знаменитого храма Св. Софии стали бояре [Лукашова, 2006, 72]. Коллективные патроны обладали такими же правами, как и единоличные [Лукашова, 2006, 72], на них возлагались такие же обязанности.
Помимо монарха и шляхты патронами церковных учреждений могли быть церковные братства, городские и приходские общины, земства [Владимирский-Буданов, 1907, 71]. Следует отметить, что и церковные иерархи обладали не только духовной властью, но также могли осуществлять функцию патронов в отношении храмов, принадлежащих их кафедрам или же находящихся в их личных владениях [Кириллова, 2007, 118].
Патрон обладал правом распоряжаться (с ограничениями) имуществом церковного учреждения, вмешиваться в юрисдикцию архиереев, в частности в митрополичье и епископское судопроизводство, принимать участие в административном управлении [Дмитриев, 2003, 35–36].
Судебные права патронов касались главным образом имущества церковных учреждений [Владимирский-Буданов, 1907, 114]. В судебной компетенции митрополита и епископов находилось «все духовенство по делам церковного порядка и благочиния», а лаики (миряне) — «по делам веры и христианской жизни» (вопросы брака, разводов, супружеской измены) [Чистович, 2014, 289–290].
Как уже было указано выше, право патроната распространялось не только на церкви, но и на монашеские обители. По подсчетам историков, в первой половине ХVI в. на украинских землях насчитывалось около 50 монастырей, из них почти половина находилась в собственности светских патронов [Ульяновський, 1994, 174]. В ряде случаев короли передавали монастыри светским лицам в наследственное владение [Ульяновський, 1994, 181]. С. Горин, изучавший монастыри на территории Волыни, отмечает, что те полностью зависели от своих патронов. Патроны фактически назначали игуменов, распоряжались бенефициями, давали монастырские уставы5, были участниками судебных дел [Горін, 2007, 30]. Они также считались верховными собственниками имущества монастыря. Так, А. И. Ходкевич в 1533 г. указывал в своей дарственной Супрасльскому монастырю, что монахи «паданья нашого продавати а меняти никому не мають» (Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, 1870, т. 9, 44). Одновременно патроны являлись гарантами соблюдения братией монастырского устава. Например, уже упомянутый нами А. И. Ходкевич, бывший ктитором Супрасльского монастыря, в случае нарушения игуменом устава обладал правом «таковаго игумена выстановити вон» (Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, 1870, т. 2, 15). В одной из грамот короля Сигизмунда I Киево-Печерскому монастырю содержалось предупреждение, что при нарушении устава из монастыря могут быть изгнаны не только архимандрит, но и «чернцы» (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, т. 2, 161–162).
Тезис об отрицательном значении института патроната в истории Православной Церкви на белорусско-украинских землях приобрел в историографии характер аксиомы. Одним из первых писал об этом М. Грушевский [Грушевський, 1994, 487]. Разделяют этот тезис и современные исследователи, в частности авторитетный российский историк-славист, специалист по Средневековью Б. Н. Флоря. Борис Николаевич подчеркивает, что патронат приводил к злоупотреблениям в Церкви, к числу которых он относит назначение епископами светских лиц, которые еще до принятия сана могли вступить в управление имуществом кафедры, назначение настоятелями в монастырях представителей белого духовенства (в нарушение канонов) и даже светских лиц (с одновременным назначением викария для отправления богослужений)6 [Флоря, 2007, 48–49].
Приверженность вышеназванному тезису можно обнаружить и в украинской исто-риографии7. Так, В. И. Ульяновский оценивает значение патроната весьма категорич- но, характеризуя его как «полное самоуправство собственников имений, спекулирование церковными должностями»8, пишет о нарушении ими канонов и элементарных предписаний христианской морали, что разрушало церковную организацию [Улья-новський, 1994, 173, 176]. Другой украинский историк, И. Я. Скочиляс, считал право «подаванья» «печально известным», писал об «узурпации представителями королевской администрации ктиторских прав над русскими церквями в Киевской митрополии», о «принуждении» Православной Церкви к опеке над нею [Скочиляс, 2011, 104]. Белорусский историк А. Р. Денисова называет право патроната «почвой для появления многочисленных злоупотреблений, когда на церковные должности могли назначаться светские особы, а церкви и монастыри с их имуществом рассматривались как источники доходов» [Чистович, 2014, 297; Дзянісава, 2008, 171]. В ряде работ, в которых затрагивается вопрос о патронате, критика данного института не звучит прямо, однако вывод о его отрицательном значении напрашивается сам собой после ознакомления с текстом.
На наш взгляд, патронат не следует оценивать исключительно с негативной точки зрения, в действительности ситуация была сложнее.
Во-первых, права патронов имели определенные ограничения. Так, патроны не могли ликвидировать церковное учреждение (например, монастырь) и присвоить себе его имущество [Флоря, 2007, 52–53]. М. Грушевский писал, что на практике этот барьер можно было обойти — патрон мог не назначать игумена и не принимать новых монахов в обитель, что привело бы к ее самоликвидации. М. Грушевский привел соответствующие факты по Волыни [Грушевський, 1994, 485–486; Флоря, 2007, 52–53]. Однако возникает вопрос, насколько распространены были подобные случаи на территории всей Киевской митрополии.
Помимо того, Виленский Собор 1509 г. запрещал князьям и боярам под угрозой отлучения отнимать имения, принадлежавшие храмам и монастырям или «иное што церковное» (Деяния Виленского собора 1509 года, 1878, 13). Следует также учитывать, что фундуши9 в пользу церквей и монастырей давались, как правило, навечно, поэтому возможную попытку ктитора вернуть обратно свое дарение можно было оспорить в суде или же в поиске справедливости обратиться с жалобой к королю.
Обратим внимание также на следующее. В великокняжеских подтверждениях Свитка Ярослава 1499 и 1502 гг. отмечалось, что патрон не имел права удалить священника из прихода без воли митрополита. Виленский Собор 1509 г. предписывал в тот приход, из которого священник был изгнан патроном без ведома епископа, не назначать нового священника «поки ся тому справедливость станетъ» (Деяния Виленского собора 1509 года, 1878, 13). В случае, если патрон не представлял кандидата на церковную должность в течение трех месяцев, право назначения переходило к епископу «для хвалы Божеи и исправления веры православных христиан, живых и мертвых» (Деяния Виленского собора 1509 года, 1878, 13). Вышеназванные меры можно рассматривать как определенное правовое ограничение возможных злоупотреблений правом «подаванья» со стороны патрона, хотя, безусловно, теория далеко не всегда совпадала с практикой и в реальности эти предписания не всегда выполнялись.
Во-вторых, в историографии, как правило, акцентируется внимание на правах патронов в отношении православных церквей и монастырей. Однако не следует забывать, что на патронов при этом был возложен и ряд обязанностей. Они должны были заботиться о храмовом здании, движимом и недвижимом церковном имуществе, материальном содержании церковных институций [Ульяновський, 1994, 172]. Как следует из грамоты Сигизмунда III Марку Балабану на Уневский монастырь 1548 г., обязанностью последнего являлось обеспечение братии продовольствием и всем необходимым, забота о ремонте монастырских построек и улучшении хозяйства, защита монахов от несправедливости. Патрон также должен был в случае необходимости представлять интересы монастыря в суде (Архив Юго-Западной России, 1904, 29–30). Патроны передавали церквям и монастырям земли и другие источники постоянных доходов, удерживали при них «шпитали», материально обеспечивали духовенство и причт [Левицкий, 1884, 27]. Все это обеспечивало нормальное функционирование церковных учреждений.
Патрон обязывал все зависимое от него население к уплате десятины в пользу Православной Церкви, а духовенство, в свою очередь, должно было возносить молитвы за него [Кириллова, 2007, 119]. Тем самым патрон выступал гарантом стабильности финансового обеспечения приходов и монастырей. На наш взгляд, система патроната, одной из составляющих которой являлся патронат горожан, в некотором смысле «приучала» мирян к ответственности за свой приход, о чем, в частности, свидетельствует следующий эпизод. Сигизмунд I дал право виленскому магистрату избирать священников, митрополит при этом лишь посвящал их в сан. Когда же горожане обратились к митр. Сильвестру с жалобами на священников, заложивших церковное имущество для собственных нужд, митрополит ответил, что не может нести за них ответственности, так как горожане сами их выбрали (Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, 1869, 34).
В-третьих, положительное значение имела, по нашему мнению, функция контроля со стороны патронов над моральным обликом духовенства и выполнением им своих обязанностей, защита интересов церквей и монастырей в суде [Лукашова, 2006, 71–72].
В-четвертых, было бы ошибочным видеть в короле-католике, обладающем правом назначения православных епископов, архимандритов и священников, врага Восточной Церкви, ведь в его же интересах было существование «единой, эффективно действующей организации православного духовенства» [Флоря, 2007, 95]. Еще российский историк ХIХ в. О. Левицкий писал, что короли (великие князья литовские) «часто оказывали ей (Православной Церкви. — С. В. ) покровительство и неоднократно прилагали старание и заботливость о ее интересах» [Левицкий, 1884, 24].
Источники свидетельствуют, что роль католического монарха, по крайней мере в ряде случаев, являлась положительной. Так, Сигизмунд I определил размеры платы мещан Вильно за совершение обрядов, погребение (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, 398-399), положив тем самым предел возможным неумеренным аппетитам духовенства. В 1540 г. возник конфликт монахов Киево-Печерского монастыря с архим. Софронием. Светская власть в лице воеводы арестовала архимандрита, назначив в обитель временного преемника и взяв под свое временное управление монастырское имущество [Флоря, 2007, 61]. Таким образом, монарх выступал как высшая инстанция, монашество могло апеллировать к нему в случае конфликта с иерархами. Еще один пример: когда монахи Киево-Печерского монастыря обратились к Сигизмунду I с жалобой на то, что воеводы много раз в году въезжают в их обитель, а братия их «честуют и даруют», король велел сократить «визиты» воеводы до двух раз в год, предписав, что монахи «даров никоторых давати ему не мают» (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, 140–142).
Король мог снять с церковной должности злоупотреблявшего ею обладателя. Во второй половине 1570-х гг. монастырь Вознесения Христова в Минске был передан земянину Стефану Достоевскому. Но когда выяснилось, что тот использует монастырь для своего обогащения («для пожитку своего тот монастырь держит»), да еще не принадлежит к «русской вере», по просьбе тогдашнего митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси Илии, минского каштеляна Яна Глебовича и шляхты Минского повета обитель была отдана королем православному земянину Михаилу Рогозе, впоследствии возглавившему Киевскую митрополию (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, т. 3, 240–241). В 1580 г. король отнял Жидичинский монастырь у Ионы Борзобогатого-Красненского за «хищническое управление его имуществами» [Владимирский-Буданов, 1907, 96-97]. Приведем еще пример. В 1585 г. жители Могилёва жаловались королю Стефану Баторию, что их владыка, полоцкий архиепископ Феофан, город не посещает, а местную Спасскую церковь отдал в аренду. Арендатор же, как писали могилевчане, «только пожитковъ своихъ, а не хвалы Божой стере-жетъ», что в результате привело церковь к разорению. Горожане просили передать храм в опеку им, что и сделал Баторий (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, т. 3, 296).
Известны факты, когда монархи прямо указывали высшим церковным иерархам на нестроения в Церкви. Так, в 1546 г. Сигизмунд II Август критиковал киевского митрополита за то, что тот никак не реагирует на «нерядности и несправе, которая ся деет межи духовенства вашего греческаго закону, також межи князей и панов и простых людей в законе вашом, а звлаща межи владык всих, яко на Волыни ся деет — иж не подле права блуды и распущенства ся великии деют, а твоя милость, яко старший их пастырь, того ведати ани встягати не хочешь» [Грушевський, 1994, 463].
Короли (великие князья литовские) неоднократно заявляли о недопустимости вмешательства представителей светской власти в митрополичий и епископский суды (в 1494, 1499, 1511гг.). В 1592 г. Сигизмунд III запретил светским лицам судить представителей духовенства, а также расторгать браки [Чистович, 2014, 290–293].
В некоторых случаях королевская власть шла на уступки православной иерархии в ее просьбах. Примером может служить решение вопроса о «jus regalium», против которого выступал епископат. В 1589 г. митр. Онисифор и епископы жаловались королю Сигизмунду III, что после кончины архиереев, игуменов и священников воеводы, подскарбии, старосты, державцы и их наместники грабят церковное имущество (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1851, 16–19). Король в том же году передал управление церковными владениями на период вакантности кафедры кафедральным клиросам. Впоследствии, в 1631 г., в сеймовой конституции был прописан запрет занимать церковные бенефиции шляхтичам во время вакантности кафедр [Скочиляс, 2011, 104]. Заметим также, что не только представители светской власти могли присваивать себе церковное имущество после кончины архиерея, но и родственники последнего. Так, после смерти луцкого епископа Ионы Борзобогатого-Красненского его невестка забрала себе церковные привилеи, книги и драгоценные предметы, в том числе золотой крест из соборного храма, а также камень стоимостью в 600 талеров, украшавший образ Богородицы. Сын владыки забрал из епископского замка Хорлуп все пушки [Грушевський, 1994, 499–500].
Безусловно, с реализацией патроната (в особенности — с правом «подаванья») были связаны злоупотребления, о чем сообщают источники. Соответствующие факты изложены в научной литературе, в частности в работе О. Левицкого [Левицкий, 1884]. Но следует учитывать, что в ХVI в. отношение общества к некоторым явлениям церковной жизни было иным, нежели в современном обществе. Так, на белорусско-украинских землях церковные должности воспринимались как бенефиции, по аналогии со светскими должностями. Покупка и продажа приходов, духовных званий и должностей считалась допустимой, равно как и наследование сыном священника прихода своего отца [Дмитриев, 2003, 37; Тимошенко, 2017, 161]. М. Грушевский писал, что патронат в ХVI в. являлся такой же принадлежностью феодального имения, как, к примеру, лесные угодья или рыбные ловы [Грушевський, 1994, 285, 483]. Характерный факт: при вступлении на киевский митрополичий престол Онисифор Девочка был женат и оставался в таком статусе на протяжении всего своего митрополитства. Судя по всему (как следует из его тестамента), в этом Онисифор не видел ничего предосудительного, считая свой брак счастливым, законным и действительным. Примечательно, что супруга митрополита Анна Пузына разделяла его взгляд, спокойно образовывая от монашеского имени мужа феминитив «Онисифоровая», которым подписывалась в документах [Лiсейчыкаy, Бобер, 2018, 14-15]. Этот факт можно расценить как одно из доказательств вопиющего падения нравов и отступления от высоких моральных требований христианства. Однако можно предположить, что современники считали по-другому и допускали возможность для архиереев иметь семьи.
В Киевской митрополии в рассматриваемый период существовала практика т. н. экспектатив. «Jus expectativae» — письменное обязательство, что епископская кафедра будет передана конкретному лицу за определенную сумму, которое давалось еще при жизни правящего епископа. Например, в 1558 г. Сигизмунд II Август дал Глебу Корсаку право занять полоцкую кафедру после смерти тогдашнего архиепископа Германа Хребтовича (Акты, относящиеся к истории Западной России, 1848, т. 3, 95). На первый взгляд, практика экспектатив предстает как некое уродливое явление в жизни Церкви, существующее в нарушение канонов. Но, с другой стороны, можно допустить, что в ту эпоху экспектативы воспринимались, по крайней мере частью общества, как нечто само собой разумеющееся. Они являлись также источником пополнения государственной казны, что особенно было актуально в период Ливонской войны [Флоря, 2007, 97].
Неверно полагать, что негативные факты, связанные с патронатом в Киевской митрополии, были обусловлены принадлежностью ряда «подавцев» к Латинской Церкви. В. И. Ульяновский отмечал, что злоупотребления патронатом были характерны не только для представителей шляхты латинского обряда, но и для православной шляхты и епископов, обладавших правом «подаванья» [Ульяновський, 1994, 176].
Под влиянием православного духовенства короли Александр (в 1497 г.) и Сигизмунд I (в 1511г.) издали грамоты, содержание которых можно трактовать как юридическую основу запрещения патроната православных церквей католиками и протестантами. Как писал М. Ф. Владимирский-Буданов, «упомянутые законы давали основания епархиальным владыкам отстранять иноверцев в отдельных случаях», признавая вместе с тем, что данный принцип постоянно нарушался [Владимирский-Буданов, 1907, 91]. Иногда даже православные становились патронами латинских храмов в государстве, где верховная власть была в руках у католиков. Вышеназванный историк привел в своей работе любопытный факт: православные князья Фёдор и Иван Вишневецкие осуществляли право «подаванья» в отношении костела [Владимирский-Буданов, 1907, 91–92]. Однако этот факт является исключением.
Обратим внимание еще на один аспект. Историки указывают на то, что в середине — второй половине XVI в. некоторые шляхтичи-патроны православных церквей переходили в латинский обряд или становились протестантами [Кириллова, 2007, 119]. Однако в этой связи требует выяснения вопрос о том, действительно ли паства в таком случае подвергалась религиозной конверсии и насколько многочисленны были подобные случаи.
Кроме того, при анализе значения патроната возникает вопрос о распространенности злоупотреблений им и, в частности, правом «подаванья». По мнению Л. Тимошенко, они носили спорадический характер в нескольких епархиях [Тимошенко, 2017, 161].
На формирование точки зрения о том, что патронат имел отрицательное значение, приводил к негативным последствиям, кризису Православной Церкви, оказала влияние полемическая литература конца XVI — начала XVII вв. (православная и униатская), являющаяся одним из источников для изучения той эпохи. В частности, весьма критически отзывался о современных ему православных иерархах И. Вишенский (Вишенский, 1955, 47). Представитель противоположного, униатского лагеря И. Потей видел во вмешательстве светских патронов в деятельность церковных учреждений одну из причин упадка нравственности и отсутствия дисциплины в среде духовенства [Турилов, Флоря, 1999, 14]; (Антиризис, или Апология против Христофора Филалета, 1903, 677-679). Но при этом следует учитывать, что произведения указанных авторов (как и ряда других) имели полемическую заостренность с присущей ей определенной гиперболизацией, к их сведениям необходимо относиться осторожно.
И. Потей же, кроме того, был убежденным сторонником сильной власти епископата в Церкви [Веремеев, 2021], его позиция шла вразрез с практикой патроната в Киевской митрополии.
Можно предположить, что на оценочные суждения маститых историков, в частности М. Грушевского, оказали влияние реалии его времени (ХIХ в.), когда в условиях существования синодальной системы Церковь отождествлялась с духовенством. Затем данная точка зрения была недостаточно критично принята следующими поколениями историков, которые также видели в Церкви прежде всего организацию духовенства. Но следует учитывать, что Церковь — это еще и светские лица (миряне, лаикат), и в ХVI в. экклезиологические взгляды могли быть именно такими. Соответственно, в получении мирянином кафедры общество не видело драматизма. Светский человек, который искренне старался жить по-христиански и становился патроном храма или монастыря или занимал церковную должность, потенциально мог принести несомненную пользу Церкви. М. Грушевский признавал, что в ряде случаев сами верующие стремились к тому, чтобы приход или монастырь находился в юрисдикции светского лица, а не епископа [Грушевський, 1994, 488]. Известно, что монахи Уневского монастыря просили короля Стефана Батория передать право патроната над обителью Василию Балобану. Просьба была удовлетворена монархом [Владимирский-Буданов, 1907, 98–99].
Один из упреков в адрес патроната состоит в том, что на церковные должности назначались лица, не соответствующие им по своим моральным и нравственным качествам, не имеющие призвания к религиозной жизни [Довбищенко, 2008, 176]. Полагаем, что причина заключается не в существовании патроната как такового, а в тех лицах, том «материале», из которого кооптировались будущие епископы, игумены и священники. По всей видимости, отсутствие даже в конце XVI в. в Киевской митрополии семинарий и возможности получить глубокие, системные знания о христианском вероучении для кандидатов на церковные должности также накладывало свой отпечаток на их морально-нравственный облик. Основная масса населения белорусско-украинских земель в рассматриваемую эпоху знала христианское вероучение очень поверхностно [Гудзяк, 2000, 87], что влияло на их действия и поступки, что в полной мере относится и к патронам из числа магнатов, шляхты, горожан.
Заключение
Таким образом, вопреки устоявшейся в историографии точке зрения, институт патроната не следует рассматривать как только лишь отрицательное явление в истории Православной Церкви на белорусско-украинских землях. Патронат существовал в условиях феодального общества, для которого было характерно право владельцев распоряжаться всеми учреждениями и имуществом, находящимися на их земле, в том числе церквями и монастырями, многие из которых были ими же и основаны на собственные средства. Патроны были обязаны заботиться о строительстве, ремонте, украшении церковных зданий, материальном обеспечении монашества, духовенства и причта, они занимались благотворительной деятельностью (создание «шпиталей» при церквях и монастырях). На патронов возлагалась функция контроля за нравственным обликом духовенства, выполнением его представителями своих обязанностей, соблюдением монастырского устава, а также защита интересов церквей и монастырей в суде. Королевский (великокняжеский патронат), несмотря на принадлежность монарха к Латинской Церкви, по крайней мере в ряде случаев, имел положительное значение для православия (установление размеров оплаты за совершение треб духовенством, отстранение допускавших произвол духовных сановников и др.).
Имевшие место факты злоупотреблений со стороны патронов, прежде всего — правом «подаванья», нельзя отрицать. Однако многие из них могли восприниматься в ту эпоху иначе (как нечто терпимое, а то и вполне естественное), нежели в наше время. Примером может служить спокойное отношение к практике покупки и продажи приходов, духовных званий и должностей. Представляется, что многие злоупотребления в Церкви были вызваны не существованием патроната как такового, а общим моральным и нравственным состоянием тогдашнего социума, поверхностным знанием христианского вероучения. Помимо того, следует поставить вопрос о масштабах негативных явлений, связанных с действиями патронов. Наблюдаемый в историографии акцент на отрицательном значении патроната в Киевской митрополии препятствует объективной оценке этого неоднозначного явления. Вместе с тем, отметим, что высказанные нами суждения во многом носят предварительный характер, а поднятая проблема нуждается в дальнейшем изучении на более глубоком уровне.
Список литературы К вопросу об институте патроната в Киевской митрополии в ХVI в. и его значении
- Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1848. Т.2. M 112. С. 14G-142; M 135. С. 161-162; M 231. С. 398-399; Т. 3: 1544-1587. СПб., 1848. M 2G. С. 95; M 29. С. 114-115; M 11G. С. 24G-241; M 152. С. 296; СПб., 1851. Т. 4. M 14. С. 16-19.
- Антиризис, или Апология против Xристофора Филалета (19G3) — Антиризис, или Апология против Xристофора Филалета // Русская историческая библиотека. Т. 19. СПб., 19G3. С. 477-982.
- Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1869. Т. 6. M 22. С. 34; Вильна, 187G. Т. 9. M 4. С. 13-16; M 18. С. 41-46.
- Архив Юго-Западной России. Киев, 19G4. Ч. 1. Т. 1G. M 17. С. 29-3G.
- Вишенский (1955) — Вишенский И. Сочинения. М.; Л., 1955. 372 с.
- Деяния Виленского собора 15G9 года (1878) — Деяния Виленского собора 15G9 года // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. СПб., 1878. Т. 4. С. 5-18.
- Владимирский-Буданов (19G7) — Владимирский-Буданов М. Ф. Церковные имущества в Юго-Западной России XVI века // Архив Юго-Западной России: в 8 ч. Киев, 1859-1911. Ч. 8. Т. 4: Акты о землевладении в Юго-Западной России XV-XVIII вв. Киев, 19G7. С. 3-224.
- Веремеев (2G21) — Веремеев С. Ф. Ипатий Потей — христианин, сенатор, епископ: между Востоком и Римом // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях: научный журнал. СПб., 2G21. Вып. M 1 (13). С. 52-73.
- Горш (2GG7) — Горн С. Mонастирi Захщно!' Волиш (друга половина XV — перша половина XVII ст. Львiв, 2GG7. 336 c.
- 1G. Грушевський (1994) — Грушевський М.С. Iсторiя Украши-Руси: в 11т., 12 кн. Кгав, 1994. 7G4 с.
- Гудзяк (2GGG) — Гудзяк Б. Криза i реформа: Кгавська митрополiя, Царгородський па-трiархат i Генеза Берестейсько'1 унп' / Пщ ред. О. Турiя. Львiв, 2GGG. 426 с.
- Дзяшсава (2GG8) — Дзятсава А.Р. Права патранату y прававым становiшчы права-слаунай царквы беларусюх зямель y канцы XV-XVI ст. // Studia Historica Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы. Минск, 2GG8. Вып. 1. С. 163-172.
- Дмитриев — Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. M., 2GG3. 32G с.
- Довбищенко (2GG8) — Довбищенко М. Волинська шляхта у релтйних рухах (юнець XVI — перша половина XVII ст.). Кив, 2GG8. 882 c.
- Епишкин (2G1G) — Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. M., 2G1G. 514G с.
- Кириллова (2007) — Кириллова Л.А. Право патроната в Киевской митрополии во второй половине XVI в. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2007. № 15. С. 118-120.
- Левицкий (1884) — Левицкий О. Внутреннее состояние Западно-русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце XVI в. и уния. Киев, 1884. 295 с.
- Лкейчыкау, Бобер (2018) — Лкейчыкау Д.В., Бобер 1.М. «Варуючы и милуючы малъ-жонку мою законную веньчалъную...»: жыццё i смерць мирапалиа-«дваяжэнца» Ашафа-ра Дзевачк // Беларуси пстарычны часотс. 2018. № 5. С. 11-23.
- Лукашова (2006) — Лукашова С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. М., 2006. 320 с.
- Морозов — Морозов М. А. Церковная собственность и ктиторство в Византии при императоре Юстиниане // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. С. 77-87.
- Скочиляс — Скочиляс I. Польске «право патронату» та особливоси правового становища Галицько! (Львiвськоl) епархп в XV-XVII столитях // Вкник Львiвськоl комерцшно! академп. Серiя гумаштарних наук. Львiв: 2011. Вип. 10. С. 100-106.
- Тимошенко (2017) — Тимошенко Л. Оргашзацшна структура Кгавсько! митрополп в другш половит XVI ст.: становище та функцюнування шституцш // Дрогобицький краезнавчий збiрник. Дрогобич, 2017. Вип. Х1Х-ХХ.С. 149-187.
- Турилов, Флоря (1999) — ТуриловA.A., ФлоряБ.Н. К вопросу об исторической альтернативе Брестской унии // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — начале XVII вв. Ч. 2: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1996. С. 13-58.
- Ульяновський (1994) — Ульяновський В. I. Iсторiя церкви та релЫйно! думки в Украшк в 3 кн. Кн. 1: Середина XV — юнець XVI столггтя. К., 1994. 256 с.
- Флоря (2007) — ФлоряБ.Н.. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье: сборник. М., 2007. 438 с.
- Вялжае княства Лиоускае: энцыклапедыя (2007) — Фундуш // Вялжае княства Лиоускае: энцыклапедыя: у 2 т. Мшск, 2007. Т. 2. С. 707.
- Чистович (2014) — Чистович И. Очерк истории Западно-Русской церкви. Минск, 2014. 912 с.
- Gaudemet (1998) — Gaudemet J. Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas. San Paolo, 1998.
- Szady — Szady B. Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowozytnych. Podstawy i struktura. Lublin, 2003.