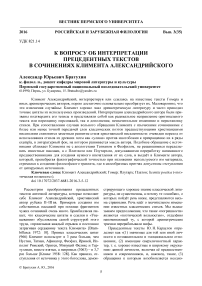К вопросу об интерпретации прецедентных текстов в сочинениях Климента Александрийского
Автор: Братухин Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Климент Александрийский, интерпретируя или ссылаясь на известные тексты Гомера и иных древнегреческих авторов, порою достаточно основательно преобразует их. Маловероятно, что эти изменения случайны: Климент хорошо знал древнегреческую литературу и часто приводил точные цитаты из используемых произведений. Интерпретации александрийского автора были призваны подтвердить его тезисы и представляли собой как радикальное исправление оригинального текста или переоценку персонажей, так и дополнение, незначительное изменение и перестановку стихов. При сопоставлении случаев вольного обращения Климента с языческими сочинениями с более или менее точной передачей слов классических поэтов предшествующими христианскими писателями становится заметным развитие стиля христианской письменности: очевиден переход от использования стихов из древних поэм как «улики» против многобожия к превращению их в ряды exempla, в литературный фон, на котором развивается мысль автора. Подобное обращение с источниками сближает Климента не с апологетами Татианом и Феофилом, не решавшимися переделывать известные пассажи, а с Платоном или Плутархом, допускавшими переработку написанного предшественниками для создания нужного впечатления от их слов, и выдаёт в Клименте автора, который, пренебрегая фактографической точностью при изложении используемого им материала, стремился к созданию философского трактата, где в своеобразных притчах допустимы отступления от цитируемых источников.
Климент александрийский, гомер, плутарх, платон, licentia poetica ("поэтическая вольность")
Короткий адрес: https://sciup.org/14729460
IDR: 14729460 | УДК: 821.14 | DOI: 10.17072/2037-6681-2016-3-5-12
Текст научной статьи К вопросу об интерпретации прецедентных текстов в сочинениях Климента Александрийского
doi 10.17072/2037-6681-2016-3-5-12
Рассмотрим преобразования прецедентных текстов античной литературы, которые позволяет себе Климент Александрийский, христианский автор рубежа II–III вв. Примеров создания им собственных пассажей при помощи фрагментов чужих сочинений очень много. Брамбилласка пишет, что классические цитаты и ссылки в «Увещевании» обусловлены самой структурой этого труда, «пронизывая каждый отрывок и постоянно затрагивая сердцевину текста Климента» [Bram-billasca 1972: 10]. Прямых классических цитат (966) Климент использует в 3 раза больше, чем Иустин, Татиан, Афинагор, Феофил, Ириней, Ипполит Римский, Ориген, Минуций Феликс и Тертуллиан, вместе взятые, а непрямых (3063) – в 3,7 раз больше [Krause 1958: 128]. Как правило, отступления от источника у этого богослова, демон- стрирующего хорошее знание классической литературы, не существенны, а потому те «ошибки», о которых пойдёт речь ниже, представляются весьма странными. Речь идёт о значительном изменении известных классических стихов. Мы высказываем предположение, что такие «погрешности» являются «поэтической вольностью», отдалённо напоминающей ту, с которой древнегреческие трагики перерабатывали мифы.
Прецедентные тексты Ю. Н. Караулов определяет как «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращения к которым возобновляется неодно-
кратно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2010: 216]. В нашей статье мы будем руководствоваться этой дефиницией.
Рассмотрим для примера фрагмент из «Педагога», где, проповедуя скромность ложа, Климент, по словам А.-И. Марру, делает «очень неточное изложение (assez inexactement résumé)» [Clément d’Alexandrie 1960: 156, n. 4] фрагмента из двадцать третьей песни «Одиссеи»: ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς τῆς νυμφιδίου κλίνης τὸ σκάζον λίθῳ ἐπανωρθοῦτο («Одиссей же при помощи камня устранил шатание брачного ложа»1) (Paed. II, 9, 78, 2). В действительности Гомер говорит: «На дворе находилась маслина с темной / Сению, пышногустая, с большую колонну в объёме; / Маслину ту окружил я стенами из тёсанных, плотно / Сложенных камней2; и, свод на стенах утвердивши высокий, / Двери двустворные сбил из досок и на петли навесил; / После у маслины ветви обсёк и поблизости к корню / Ствол отрубил топором, и отрубок у корня, отвсюду / Острою медью его по снуру обтесав, основаньем / Сделал кровати, его пробуравил, и скобелью брусья / Выгладил, в раму связал и к отрубку приладил, богато / Золотом их, серебром и слоновою костью украсив; / Раму ж ремнями из кожи воловьей, обшив их пурпурной / Тканью, стянул. Таковы все приметы кровати» (Od. XXIII, 190–202; здесь и ниже, если нет примечаний, пер. В. А. Жуковского). Слово θάλαμος, имеющее значение «спальня», метонимически может означать «брачное ложе» 3. Климент, впрочем, всегда употребляет это слово в значении <брачный> чертог. Тем не менее он мог перетолковать 192– 193-й стихи «Одиссеи» в нужном для него ключе: «Я ложе воздвиг, плотно подогнав один камень к другому».
Имя Пенелопы, к образу которой более ранние христианские авторы не обращались, появляется на страницах творений Климента Александрийского три раза. Это появление, очевидно, объясняется влиянием «внешних» писателей, а не заимствованием сюжета у предшествующих апологетов. В «Педагоге» Климент пишет: «Природа же не постоянно предоставляет время для брачного общения, но более желанным бывает более редкое соединение. Однако не следует, как во мраке, и ночью быть невоздержанным, но нужно помещать в душе стыдливость, словно свет разума. Мы не будем ничем отличаться от ткущей (ἱστουργούσης) Пенелопы, днём создавая ткань (ἐξυφαίνοντες) учения целомудрия, ночью же распуская (ἀναλύοντες), когда восходим на ложе» (Paed. II, 10, 97, 1–2). Александрийский богослов намекает на стихи Гомера: «День целый она <Пенелопа> за тканьём проводила
(ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν), а ночью / Факел зажёгши, сама всё натканное днём распускала (ἀλλύεσκεν)» ( Od . II, 104–105; XIX, 149–150; XXIV, 139–140). В изданиях «Педагога» в качестве параллели к этому месту приводится также пассаж из платоновского «Федона», где этот образ используется в похожем контексте: «<душа философа> не думает, будто дело философии – освобождать её, а она, когда это дело сделано, может снова предаться радостям и печалям и надеть прежние оковы, наподобие Пенелопы, без конца распускающей свою ткань (τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριζομένης)» ( Plat . Phaedo. 84a, пер. С. П. Маркиша). Отметим, что лексических параллелей между текстом Климента и Платона нет и что образ Пенелопы, являющейся символом супружеской верности, у Климента, как и у Платона, появляется вне всякой связи с её целомудрием; более того, она оказывается связанной с отступлением от воздержания.
Яннис Цермулас указывает на главку из луки-ановских «Беглецов», где также используется образ ткущей Пенелопы [Tsermoulas 1934: 100, n. 5]. Философия там говорит Зевсу: «Простые люди, глядя на эти <дурные дела псевдофилософов>, презирают философию, думают, что все <философы> таковы, и обвиняют меня за <такое> учение. Так что невозможно долгое время оставаться со мной тому, кого мне удастся привлечь к себе. Но со мной случается то же, что с Пенелопой: то, что я сотку (ἐξυφήνω), за короткое время снова распускается (ἀλλύεται)» ( Luc . Fugit. 21). При этом Цермулас никак не комментирует упоминание Климентом Пенелопы в контексте осуждения невоздержанности [ibid.: 99–100].
Согласно Клоду Мондезеру, у Климента встречается использование слова, выражения, даже фразы без какого-либо внимания к особой авторитетности текста, к его собственному смыслу и ещё менее к его контексту, но «исключительно по причине экспрессивной окраски его значения (valeur expressive) для обсуждаемого предмета <…>. Климент не отказывается от этого использования <текстов>, он обращается к Платону и Гомеру, так же как сам Платон обращался к Гомеру <…>» [Mondésert 1944: 162]. Вероятнее всего, в рассматриваемом фрагменте Пенелопа появляется просто как риторический пример, который, однако, мог намекать на то, что добродетель язычников не может сравниться с новозаветной праведностью. Джон Фергюсон замечает, что сравнения, метафоры и образы у Климента не только литературные общие места, «не только приёмы обучения, предназначенные прояснить нечто тёмное ссылкой на знакомое; они выражают философию жизни» [Ferguson 1976: 67].
В «Педагоге» Климент доказывает, что молоко является совершенной пищей: «С полным основанием Господь вновь обещает молоко праведным, чтобы Логос явно показал Себя обоими, альфой и омегой, началом и концом. Нечто подобное и Гомер против своей воли прорицает, называя праведных людей галактофагами» (Paed. I, 6, 36, 1). Здесь Климент видоизменяет сообщение Гомера, у которого сказано: «<...> достославных гиппомолгов / галактофагов (т. е. питающихся лишь молоком) и абиев, справедливейших из людей» ( Il . XIII, 5–6, перевод наш. – А. Б .). По словам А.-И. Марру, «в своём рвении сделать из Гомера пророка Климент даёт галактофагам гиппомолгам (букв.: «доящим кобылиц», прим. наше. – А. Б. ), названным просто “благородными”, эпитет “справедливые”, который поэт присваивает другому народу, абиям» [Clément d’Alexandrie 1960: 176, n. 1]. Климент, вероятно, истолковал название народа (Ἀβίων) как омонимичное прилагательное со значением «бедных» (ἀβίων). Именно так переводит текст Гомера (ἀγαυῶν ἱππημολγῶν γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων) Н. И. Гнедич: «<…> и дивных мужей гиппомолгов, / Бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных».
В «Увещевании к язычникам» Климент пишет: «Итак, убежим от обычая, убежим от него, как от опасного мыса, как от угрозы Харибды или как от мифических сирен: он душит человека, является западней, пропастью, бездной; он ненасытен: “ В сторону доложен ты судно от-весть от волненья и дыма”4. Убежим, убежим, о спутники, от той волны: она извергает огонь (πῦρ ἐρεύγεται)» (Protr. 12, 118, 1–2). У Гомера говорится: «Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала / Жадно Харибда солёную воду: когда извергались / Воды из чрева её, как котле, на огне раскалённом (λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ), / С свистом кипели они, клокоча и буровясь» ( Od. XII 235–238).
В «Строматах» (V, 14, 116, 1) Климент, доказывая, что Гомер различал Отца и Сына, приводит подряд три стиха (410–411 и 275) из девятой песни «Одиссеи» с очень незначительными изменениями, где упоминается «Великий Зевс» и «Зевс-щитодержец»: εἰ μὲν δὴ οὔτις σε βιάζεται οἷον ἐόντα («Если никто, для чего же один так ревёшь ты? Но если»), / νοῦσον δ҆ οὔπως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι («Болен, то воля на это Зевеса <великого>, её не избегнешь») (Od. IX, 410–411). / οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν («Ибо Зевес Щитодержец циклопов отнюдь не пугает») (IX, 275, пер. этого стиха наш. – А. Б.). Эндрю Иттер ссылается на это место, не анализируя перестановку Климентом гомеровских строчек [Ittrer 2009: 150, n. 37].
В пользу сознательного изменения Климентом смысла гомеровского текста говорят следующие обстоятельства. Маловероятно, чтобы александрийский автор не помнил красочное описание устройства ложа царя Итаки или, приведя точную цитату из этой поэмы в «Увещевании», тут же ошибся в парафразе. Преобразования стихов «Одиссеи» достаточно остроумны и не похожи на lapsus memoriae: появление в «Педагоге» камня (λίθος) и брачного ложа (νυμφίδιος κλίνη) вытекает из упоминания у Гомера камней (λιθάδες) ( Od. XXIII, 193) и брачного чертога (θάλαμος) ( Od. XXIII, 192). Приписывание волне способности извергать огонь можно объяснить наличием в гомеровской поэме сравнения кипящей волны с кипящим на огне котлом. При этом получившиеся пассажи соответствуют задачам христианского автора: доказать аскетизм древнегреческого героя, ярким сравнением предостеречь читателей от невоздержанности, проиллюстрировать совершенство молока как пищи, придать описанию Харибды инфернальный оттенок (ср.: Мф. 25:41) и доказать существование уже у Гомера зачаточных представлений о троичности Бога.
Право «исправлять» слова Гомера об устройстве спальни Одиссея, вероятно, вытекало для Климента из его уверенности в том, что одно – поэтическое описание, другое – истинное положение вещей. Поскольку Одиссей для александрийского автора – персонаж положительный5, его поступки должны соответствовать его образу. Такое исправление напоминает два отрывка из «Увещевания», где Климент, приведя гомеровские или культовые эпитеты, тут же предлагает их изменить на более подходящие: «Посвящения, достойные ночи и огня, и многомужественного ( Il . II, 547), скорее же многосуетного племени Эрехтидов» (Protr. 2, 22, 1). «Хорош же Зевс Мантик (Прорицатель), Ксений (Защитник чужестранцев), Гикесий6 (Покровитель просящих), Мейлихий (Милостивый к кающимся), Па-номфей (Посылающий все знамения), Простро-пей (Мстящий за преступления)! Скорее же Обидчик, Беззаконник, Преступник, Нечестивец, Бесчеловечный, Насильник, Растлитель, Прелюбодей, Сладострастник» (Protr. 2, 37, 1).
Ещё на одну «правку» гомеровского текста указывает Дэвид Досон: «Климент атакует излюбленную цель тех философски мыслящих критиков, которые находили гомеровскую поэзию неподходящей – его описание молитв (Litai) как дочерей Зевса. У Гомера старый возница Феникс говорит Ахиллу: “Так, Молитвы – смирен- ные дщери великого Зевса – / Хромы, морщинисты, робко подъемлющи очи косые, / Вслед за Обидой они, непрестанно заботные, ходят. / Но Обида могуча, ногами быстра; перед ними / Мчится далёко вперёд и, по всей их земле упреждая, / Смертных язвит; а Молитвы спешат исцелять уязвлённых” (Il. IX, 502–507, пер. Н. И. Гнедича). Гомер, возможно, рассматривал молитвы как аллегорические олицетворения Зев-сова отклика на наказание; по крайней мере, античные читатели, подобные Архилоху и Алкею, истолковывали эту сцену таким образом. Но Климент истолковывает гомеровские слова буквально, высмеивая “хромающие, морщинистые, косоглазые” Молитвы как “дочерей скорее Терсита, чем Зевса” и с сарказмом вопрошая: “Разве справедливо, что люди у Зевса просят родительского счастья, которое он не смог дать самому себе?”» [Dawson 1992: 203].
В более позднюю эпоху такое «корректирование» получит продолжение. Свт. Григорий Богослов, как бы полемизируя с Платоном, утверждает: «Бога познать трудно, изречь же невозможно, как некто из богословов у эллинов философствовал, – надуманно (οὐκ ἀτέχνως), мне кажется <…>. Но изречь невозможно, как я считаю, познать же невозможнее» ( Greg. Naz . De theologia. Orat. 28, 4).
Отметим, что и при передаче других классических текстов Климент допускает отступления от первоисточника: «Из-за вина, без меры <выпитого>, язык делается связанным, губы становятся вялыми, глаза теряют естественность, словно бы лицо было погружено в обильную влагу, и, принуждённые заблуждаться, считают, что все вокруг крутится, но не могут сосчитать по отдельности то, что вдали: И мнится мне, что два я вижу солнца ( Eur . Bacch. 918), говорил пьяный фиванский старец <…>» (Paed. II, 2, 24, 1). Климент не только превращает Пенфея в старика, но делает его своеобразным «илотом», демонстрирующим вред пьянства. Отметим, что в «Увещевании» фиванский царь изображён более традиционно: « И мнится мне, что два я вижу солнца, Фив / Двойных виденье предо мной <...> — сказал некто, приведённый в исступление идолами, опьянённый неразбавленным вином невежества. Я, скорее всего, пожалею его, буйствующего во хмелю, и призову находящегося не в своём уме к трезвому спасению, потому что и Господь радуется раскаянию, а не смерти грешника» ( Clem . Protr. 12, 118, 5).
В Strom. III, 2, 10, 2 Климент «исправляет» Платона, говорящего об общности жён. При этом истолкование христианским автором слов языческого философа перекликается с истолкованием последнего Эпиктетом (Epict. Dissert. II, 4, 8–10). По нашему мнению, такая интерпретация известных языческих текстов является не изолированным примером работы христианского автора с наследием античности, а естественным продолжением классической традиции, которой он, если хотел быть читаемым своими современниками, должен был следовать, примкнув «к господствующей моде» [Scham 1913: 173].
Андре Меа так характеризует Климента: «Аттикист по языку, он при случае проявляет себя как искусный писатель, способный занять место рядом с наиболее утончёнными и красноречивыми авторами своего времени – Плутархом, Лукианом, Дионом Хризостомом» [Méhat 1966: 15]. Первый из упомянутых французским исследователем писателей, обращение Климента к которому признаётся учёными [Pohlenz 1943: 129], неоднократно позволял себе видоизменять свои источники. Например, он так объясняет невозможность совместной трапезы Одиссея и Ифита: «Гомер, сказав “Но за стол пригласить свой друга не мог”7, очевидно, знал <происходящую от> вина словоохотливость, порождающую многословие» ( Plut . Quaest. conv. III, 645a). На самом деле, согласно Гомеру, совместная трапеза Одиссея и Ифита не могла состояться из-за смерти последнего: «<…> прекратил сын Зевесов, Геракл беспощадный, / Жизнь благородному Ифиту, Еврита славного сыну» ( Od . XXI, 36–37).
Беседу Телемаха с Нестором автор «Застольных бесед» объясняет желанием сына Одиссея порадовать вопросами словоохотливого старика: «Старикам, даже если <их> рассказ совершенно не нужен (κἂν μηδὲν ἡ διήγησις ᾖ προσήκουσα), спрашивающие о всякой всячине угождают и побуждают <их>, желающих, к разговору» ( Plut . Quaest. conv. II, 631b). У Гомера Телемахом, если верить его словам, обращённым к Ментору-Афине, движет совсем иное чувство: «Я же теперь, о ином вопрошая, хочу обратиться / К Нестору – правдой и мудростью всех он людей превосходит» ( Od . III, 243–244).
В восьмой книге «Застольных бесед» Плутарх, рассуждая о пристрастии современников к баням с горячей и холодной водой, изменяет гомеровский стих «Там в Ахеронт Пирифлеге-тон с Коцитом впадают (ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι / Κώκυτός θ᾽)» (Оd. X, 513–514, перевод наш. – А. Б.). Для того чтобы цитата соответствовала его предыдущим словам, он пишет: «Там Ахеронт с Пирифлегето-ном струятся (ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέρων τε Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι); ибо это, как мне кажется, сказал бы некто из живших немного ра- нее нас, если бы отворилась дверь бани» (Plut. Quaest. conv. VIII, 734a–b).
В сочинении «Об Исиде и Осирисе» Плутарх заявляет, что Платон называет Исиду кормилицей (τιθήνη) и всеохватывающей (πανδεχής) ( Plut . De Isid. et Osir. 372е [53]), хотя Платон в соответствующих местах ( Plat . Tim. 49a, 51a) Исиду не упоминает.
Возвращаясь к Клименту, отметим, что при сопоставлении его отношения к передаче фрагментов из сочинений античных поэтов с подходом более ранних авторов, таких как Иустин Философ, Татиан, Афинагор, Феофил Антиохийский, можно заметить преодоление александрийским писателем «робости» своих предшественников перед изменением оригинального текста. Это можно, на наш взгляд, объяснить изменением оценки Климентом христианской литературы: для апологетов их сочинения были несопоставимыми с сочинениями античных классиков, поставлявших им материал для критики язычества, материал, который должен был быть точно переданным, словно улика; автор же «Стромат» намеревался создать текст, формально не отличавшийся от текстов Плутарха или Платона.
Жан Пепен так говорит об изменениях в употреблении разными христианскими авторами языческих exempla («риторических примеров»): «Христианские апологеты II века используют некоторые из них, но они чаще всего делают это с враждебными намерениями. Гораздо более доброжелательное отношение возникает в III в. с Климентом Александрийским, может быть, потому что гностики за это время поспособствовали чрезмерному смешению <христианства> с греческой мифологией. Не прекращают отмечать у Климента и его преемников все риторические средства язычества, предназначенные <помочь> изложению христианских идей» [Pépin 1986: 20– 21]. Христианский автор Ипполит (170–236 гг.) рассказывает (Hipp. Ref. V, 7, 29–33) о том, что гностики наассены усмотрели в словах «Одиссеи» («Эрмий тем временем, бог килленийский, мужей умерщвлённых / Души из трупов бесчувственных вызвал; имея в руке свой / Жезл золотой (по желанью его наводящий на бодрых/ Сон, отверзающий сном затворённые очи у сонных), / Им он махнул, и, столпясь, полетели за Эрмием тени <...>» (Od., XXIV, 1–5)) намёк на христианское слово, золотым жезлом которого является железный жезл из псалма (Пс. 2:9). По мнению наассенов, оно, пробуждая уснувшие души, действует в соответствии с ролью, принадлежащей Христу из Еф. 5:14 [Pépin 1986: 40]. На наш взгляд, причина перемены отношения Климента к наследию античности заключается в его ориен- тировании не на гностиков, а, как было сказано выше, на классических авторов. Не исключая влияния на автора «Педагога» общей тенденции более широкого использования античных мифов, появлению которой могли поспособствовать и еретики II–III вв., мы полагаем, что Климент (как, возможно, и упомянутые Ипполитом на-ассены), обращаясь к образам гомеровских героев и изменяя оригинальные тексты, следовал направлению, заданному авторами, подобными Плутарху. В пользу этого предположения говорят следующие факты. Во-первых, для ортодоксального писателя, даже такого терпимого к инакомыслию, как Климент, было бы странным подражать тем, с кем он полемизирует; во-вторых, характер интерпретации им фрагментов из «Одиссеи» как неких примеров, призванных подтвердить его правоту в бытовых советах, более похож на способ использования гомеровских стихов прославленными языческими авторами, чем на приведённый выше «мистический» пассаж гностиков.
Весьма вольная передача древних текстов, привлекаемых Климентом, по нашему мнению, для демонстрации своей верности литературной традиции, является одной из черт создаваемого Климентом стиля христианской письменности, когда христианское содержание вливается в античные формы. В этой связи следует обратить внимание и на «неправильное» описание Климентом мистерий: «В Элевсине тогда жили землеродные. Имена им Баубо, Дисавл, Триптолем, а еще Евмолп и Евбулей. <…> Баубо <…>, приняв гостеприимно Деметру, предлагает ей кикеон. Когда та отказалась взять и не пожелала пить, так как была печальна, Баубо, огорчившись, словно её обидели, задирает подол и показывает богине срам. Деметра же радуется зрелищу и отведывает напиток, насладившись увиденным. Это и есть мистерии афинян» (Protr. 2, 20, 2–3). Климент для того, очевидно, чтобы опорочить знаменитые элевсинские ритуалы, вводит в них принадлежащую орфическим мистериям [Nilsson 1967: 657–658, Anm. 2] Баубо.
М. П. Нильссон, высказывавший сомнение в том, что Климент был посвящённым, считает, что церковные авторы не стремились к точности в описаниях обрядов и не проверяли, к каким мистериям они относятся. Целью такого рассказа была демонстрация их предосудительности. Читатели практически ничего не знали об этом предмете и не могли проверить сообщаемую информацию [Нильссон 1998: 60]. Нам представляется, что Климент, придумывая контаминированные таинства, не имел намерения обмануть читателей, а шёл по стопам самих язычников.
Сравнивая разные культы, имеющие, как ему представляется, одинаковое содержание, Климент уподобляет таинства, посвящённые Зевсу и Деметре, таинствам в честь Аттиса, Кибелы и корибантов (Protr. 2, 15, 1). В этом сближении христианский автор не противоречит язычникам: Э. Хэтч упоминает «роспись в нехристианских катакомбах в Риме, в которой элементы греческих мистерий Деметры смешиваются с элементами мистерий Сабазия и Митры таким образом, который предполагает, что и культы их также были смешаны» [Hatch 1957: 290]. Соединяя в Protr. 2, 20, 2–3 элевсинские и орфические элементы, александрийский автор рассматривает используемый материал не как улику (подобно, например, Афинагору, (Legat. 20)), а как литературное средство для раскрытия своей концепции языческих мистерий.
В сочинении «Об Исиде и Осирисе» Плутарх декларирует свой принцип обращения с мифами, который, вероятно, можно распространить и на литературные памятники: «Следует использовать мифы не как представляющие собой лишь рассказы (λόγοις πάμπαν οὖσιν), но беря то, что в каждом есть подходящего (τὸ πρόσφορον ἑκάστου) в соответствии со сходством (κατὰ τὴν ὁμοιότητα)» ( Plut . De Isid. et Osir. 374е [58]). Руководствуясь подобным правилом, Климент истолковывает прецедентные тексты и обряды античности.
Мы видим, что изменения, вносимые Климентом Александрийским в классические тексты, призванные подтвердить защищаемое им положение, представляют собой или кардинальное исправление античного поэта (описание устройства Одиссеева ложа, ср. объяснение невозможности совместной трапезы Ифита и Одиссея у Плутарха), переоценку персонажей (истолкование распускания Пенелопой ночью сотканного ею днём как образа возвращения человека к греху, ср. истолкование Плутархом умудрённого годами Нестора как болтливого старика), или незначительное изменение (приписывание галактофагам праведности абиев, ср. уравнивание Ахеронта с Пирифлегетоном у Плутарха), дополнение (упоминание огня Харибды, ср. вставление Плутархом имени Исиды в платоновский текст). Такая вольность обращения с текстами, принадлежащими великому языческому поэту, переводит Климента из разряда авторов, подобных Татиану и Феофилу, не решавшихся переделывать известные пассажи, в когорту тех, кто, как Платон или Плутарх, допускали преображение сказанного предшественниками для произведения нужного впечатления на читателей.
Мы видим, что Климент, видоизменяя используемые им классические тексты, демонстрирует иное отношение к ним, чем его предшественники, греческие апологеты II в. Для них античная литература была в некотором отношении чуждой, и ее памятники привлекались ими в полемических целях. Климент «по-свойски», как Платон или Плутарх, обращается с Гомером и другими поэтами, рассматривая их тексты, таким образом, как материал для продуцирования своих, а их самих – как авторов одной с собой культуры.
CONCERNING INTERPRETATION OF PRECEDENT TEXTS
IN WORKS BY CLEMENT OF ALEXANDRIA
Alexander Ju. Bratukhin
Associate Professor in the Department of World Literature and Culture Perm State University
Список литературы К вопросу об интерпретации прецедентных текстов в сочинениях Климента Александрийского
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд.7-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.
- Нильссон М.-П. Греческая народная религия/пер. с англ. и указ. С. Клементьевой; отв. ред. А. И. Зайцев. СПб.: Алетейя, 1998. 245 с.
- Brambillasca G. Citations de l’Écriture Sainte et des auteurs classiques dans le Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας de Clément d’Alexandrie//Studia patristica. 1972. Vol. 11. Part 2 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. 108). P. 8-12.
- Clement d'Alexandrie. Le Pedagogue. Livre I/Introduction et notes de H.-I. Marrou, traduction de M. Harl. Paris: Les editions du Cerf, 1960. 298 р
- Dawson D. Allegorical readers and cultural revision in ancient Alexandria. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992. XI. 341 p
- Ferguson J. The achievement of Clement of Alexandria//Religious Studies. 1976. Vol. 12, № 1. P. 59-80
- Hatch E. The influence of Greek Ideas on Christianity. New York, 1957
- Itter A. C. Esoteric teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden, Boston, 2009. XIX. 233 p
- Krause W. Die Stellung der fruhchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur. Wien: Herder, 1958. 320 S
- Mehat A. Etude sur les 'Stromates' de Clement d'Alexandrie. Paris: Editions du Seuil, 1966. 580 p
- Mondesert, C. Clement d'Alexandrie. Introduction a l'etude de sa pensee religieuse a partir de l'Ecriture. Paris; Aubier: Editions Montaigne, 1944. 278 p
- Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. 2. Aufl. Munchen, 1967. Bd. 1. XXIV. 892 S. 27. Ill
- Pepin J. Christianisme et mythologie. Jugements chretiens sur les analogies du paganisme et du christianisme//De la philosophie ancienne a la theologie patristique. Variorum reprints. VIII. London, 1986. Р. 17-44
- Pohlenz M. Klemens von Alexandreia und sein hellenisches Christentum//Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologisch-historische Klasse. № 3. Gottingen: Van-denhoeck & Ruprecht, 1943. S. 103-180
- Scham J. Der Optativgebrauch bei Klemens von Alexandrien in seiner sprach-und stilgeschichtlichen Bedeutung. Ein Beitrag zur Geschichte des Attizismus in der altchristlichen Literatur. Paderborn: Druck und Verlag von Ferdinand Schoningh. 1913. XIV. 182 S
- Tsermoulas J. M. Die Bildersprache des Klemens von Alexandrien. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der hohen philosophischen Fakultat der Universitat Wurzburg. Kairo Safarowsky: Buchdruckerei, 1934. 116 S