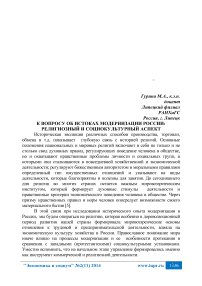К вопросу об истоках модернизации России: религиозный и социокультурный аспект
Автор: Гурина М.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140107146
IDR: 140107146
Текст статьи К вопросу об истоках модернизации России: религиозный и социокультурный аспект
Историческая эволюция различных способов производства, торговли, обмена и т.д. показывает глубокую связь с историей религий. Основные положения национальных и мировых религий включают в себя не только и не столько свод духовных правил, регулирующих поведение человека в обществе, но и охватывают нравственные проблемы личности и социальных групп, в которыми они сталкиваются в повседневной хозяйственной и экономической деятельности; регулируют божественным авторитетом и моральными правилами определенный тип имущественных отношений и указывают на виды деятельности, которые благоприятны и полезны для занятия. До сегодняшнего дня религия во многих странах остается важным мировоззренческим институтом, который формирует духовные стимулы деятельности и нравственные критерии экономического поведения человека в обществе. Через призму нравственных правил и норм человек опосредует возможности своего материального бытия [5].
В этой связи при исследовании исторического опыта модернизации в России, мы будем опираться на религию, которая особенно в дореволюционный период развития нашей страны формировала мировоззренческие основы отношения к трудовой и предпринимательской деятельности, влияла на экономическую культуру хозяйства в России. Православное понимание мира иначе влияло на процессы модернизации и ее особенности протекания в сравнении с западными (протестантскими) социокультурными установками. Уместно вспомнить, что на начальном этапе управление формировалось именно как инструмент коммерческой и религиозной деятельности.
Как известно, подготовительный этап модернизации в западных странах начался с распространения идей, разрушивших старую и сформировавших новую систему общественных ценностей, с построения новой культуры, изменения идентичности людей. Именно изменение культурной идентичности рассматривается теоретиками модернизации как необходимое условие успешности, а её смена говорит о завершённости определённой фазы модернизационного цикла [6, с.22].
В XIX веке отечественные исследователи западной культуры во всю пишут о её человекоцентричности. Формируется принципиально иная культура модернизации на Западе в период XIX-XX веков, в результате которой появляется её социальный субъект - личность, которая разделяет идеи индустриализации, отказа от традиционного уклада и принципы рыночной экономики и активно претворяет их в жизнь. Тип личности, нацеленный на активное воздействие на внешний мир, стремящийся к материальному успеху, материальному богатству, удовлетворению собственных возрастающих потребностей, получил название «экономический человек» (homo economicus).
Исследования нашего отечественного опыта того периода показывают, что как бы ни была важна смена поколений техники и технологии, главным объектом любой эффективной модернизации всегда остаётся само общество, призванное обеспечить её общественно-политическую и социальноэкономическую среду.
Известно, что инновационные процессы мотивируют общество на отвечающее его запросам экономико-технологическое развитие, тогда как модернизация подразумевает и создание необходимых для этого институциональных предпосылок, а также соответствующую им социализацию человека.
Капиталистические институты, воспроизводящие определённый социально-экономический и политический порядок и формирующие соответствующие архетипы поведения в обществе, начали складываться в те же времена и в России. Их возникновение было связано с реформами патриарха Никона и последовавшим за ними расколом в Русской Православной Церкви.
На протяжении XVIII–XIX веков под влиянием православия в России формируется отличная от западной модель купеческо-предпринимательской деятельности. Большинство российских предпринимателей имеют крестьянские народные корни. «Морозовы, Корзинкины, Рябушинские, Бахрушины и многие другие были выходцами из народа; они сами или их деды и прадеды пришли из деревень с котомками и в лаптях, впоследствии стали миллионерами, но в нравственном развитии, в привычках, в быту они оставались неизменными, только столичная жизнь отшлифовала их внешне», – писал один из авторов-мемуаристов о российских предпринимателях второй половины XIX века, их устремлениях, внутренних стимулах к деятельности [7; 12, С.36].
Важным для понимания хозяйственной модели того периода является то, что российские предприниматели, вышедшие из крестьянства, были христианами по своему воспитанию и традициям (как правило, представителями Русской Православной Церкви и старообрядчества). Крупный московский купец Н.П. Вишняков, например, писал: «Как у отца, так и у матери, основы мировоззрения и морали покоились на религиозных началах, а в нашей среде религиозность почти всегда отождествлялась с державностью...» [11, С.38]. Купечество в России XVIII–XIX веков было буквально проникнуто христианством, ощущало свою связь с православием и ревностно соблюдало утверждённые веками правила [7].
Купцы воспринимали свой успех в делах, как данный Богом, знали, что им дается много, но и щедрость их оставила потомкам великое культурное наследство. Проявляя личное усердие в труде, они с готовностью отдавали приобретенное, не считая его только своим.
Формировавшееся на новых началах предпринимательство впитывало в себя обе струи православия – новое («никонианское») и строобрядческое («древлее»), и до некоторых пор мирская общественная деятельность их представителей мало чем различалась. Новое купечество, представляющее собой класс капиталистических предпринимателей, как и его предшественники, достаточно лояльно относилось к императору, прилагая большие усилия для решения задач не столько личного обогащения, сколько общественной направленности [7].
В середине ХIХ века государством предпринимаются попытки создания социального порядка по либеральной модели. В реформах Александра II было намечено преобразование не только государственных, но и социальноэкономических институтов. С освобождением крестьян от крепостной зависимости, созданием механизмов земского самоуправления, ослаблением административной регламентации частного предпринимательства в стране пробиваются ростки гражданского общества, формируются новые социальные институты.
В конце XIX века, когда «производящий» капитализм в России стал перерождаться в финансово-монополистический, начал меняться весь спектр социального поведения, культурных ориентаций и предпочтений купечества, их конфессиональной принадлежности, а также методов хозяйствования. Основной новацией было усиление банковского, финансового капитала, постепенное обретение им превосходства над промышленным. При этом, сами русские предприниматели чувствовали в этом изменении что-то чуждое, противоречащее интересам дела. Один из купцов Рябушинских, Владимир Павлович, писал о банковском деле как лестнице, ведущей вниз.
В конце 1920-х годов В.П. Рябушинский более критично стал оценивать события и факты. Он считал, что в третьем и четвертом поколениях вера в Божий промысел в отношении богатства исчезла, а вместе с ней разрушалось патриархальное единение хозяина и рабочего. Появился тип «западного капиталиста конца XIX века, для которого не был проблемным вопрос – почему я богат, для чего я богат? Богат – и дело с концом, мое счастье» [11, С.39].
Однако, по мнению того же автора, в начале ХХ века возник и другой, «чисто русский» тип капиталиста, пытавшегося восстановить патриархальный тип хозяина. В целом, можно согласиться с мнением председателя Общества купцов и промышленников России О. Гарцева в том, что «русский бизнес богат традициями. Мораль его основана на православной вере, гуманизме и человеколюбии. В России, как ни в одной другой стране, была развита благотворительность».
В купеческой среде деньги не возводились в культ, а ростовщичество (равно как и компроментация конкурентов) строго осуждались. Свободное время купцы посвящали благоустройству родного города, попечительской деятельности учебных учреждений, развитию медицины и культуры. Уникален опыт управления своим делом и активной социальной деятельности династии предпринимателей Серебряковых. Эффективно развивая и расширяя своё дело, царицынские предприниматели, тем не менее, не забывали о нуждах родного города, строили театральные, культурные, образовательные и общественные здания на свои личные средства. На пожертвования царицынских меценатов создавались крупные общеобразовательные и благотворительные заведения, развивался общественный транспорт, благоустраивался и озеленялся город. Не забывали они и о бедных, обездоленных, создавали попечительские советы, миссия которых - оказать помощь нуждающимся.
Таким образом, для предпринимателей рубежа ХIХ–ХХ столетий имущественные пожертвования, содержание странноприимных домов, приютов, медицинских и учебных заведений были делом чести и нравственного долга перед Богом и обществом. В те времена считалось нормой, если богатые и влиятельные люди благоустраивают родные города, дарят им школы, больницы, библиотеки, музеи, строят и содержат эти учреждения. Возрождение духовных традиций и привнесение в практику управления бизнесом опыта отечественных предпринимателей прошлого сегодня позволило бы возродить уникальные механизмы создания и внедрения новшеств с учётом особенностей русского характера, требований современных технологий и институциональных особенностей внешней среды.
Как указывалось выше, некоторые особенности развития трудовой деятельности в условиях модернизации дореволюционной России имело старообрядчестве. В основе старообрядческой практики определённого социального поведения лежали действия общины: её члены были согласны постоянно надзирать друг за другом, выявлять, осуждать, если надо, наказывать нарушителей и, в конечном счете, заставить массы участвовать в формировании нового человека, перевоспитывать самих себя.
Именно особое отношение к производству, собственности, к товару, к людям, создающим и потребляющим эти товары, позволило старообрядчеству стать, несмотря на активное противодействие власти, выдающейся экономической силой. В XVIII и особенно в XIX веках старообрядцы демонстрировать активность в предпринимательстве, в частности в мануфактурном производстве, в торговле. В их среде появились предпринимательские династии Гучковых, Морозовых, Рябушинских, Прохоровых и других, которые стали впоследствии известны и как меценаты, «благотворители», сделавшие очень много для русской культуры. По имеющимся данным, староверы владели от 60 до 75% капиталов дореволюционной России.
Исследования показывают, что модернизация производства по старообрядческим канонам отталкивалась от рынка покупателя, старообрядческое предпринимательство изначально ориентировалось на то, что надо делать лучший товар и продавать его по высшей цене. Для старообрядчества в первую очередь была характерна личная ответственность за дело, тогда как традиционная этика больше склонялась к тому, чтобы сильнее привязать человека к руководителю, вождю, царю, государю, сделать его максимально зависимым от них. Старообрядчество в решении важнейшего этического вопроса, что более ценно - человек или общество, личность или государство, однозначно ответило в пользу ценности человеческой личности, её неприкосновенности, личной ответственности за себя и за свои деяния.
В настоящее время Русская Православная Церковь поддерживает частное предпринимательство, однако считает, что если частный принцип доведен до предела, когда предприниматель на пути получения прибыли переступает нравственные законы, то это должно получать моральное и социальное неодобрение как со стороны религиозного института, так и со стороны государства, политиков и общества в целом. В будущем, развивая такую позицию, мы сможем сформировать собственные этические законы и правила ведения бизнеса, управления модернизационными процессами, основанные на глубоких постулатах православной культуры и, несомненно, вступающие в противоречие с культурой неограниченного потребления Запада.
В начале ХХ века в результате реформ П.А.Столыпина, в основе которых лежал европейский рационализм, далёкий от существовавшей в стране патриархально-общинной хозяйственной культуры, в стране на основе развития собственной культурной идентичности была создана довольно мощная социальная прослойка активных и эффективных мелких собственников-землевладельцев, способствовавшая бурному развитию рыночных отношений в сельском хозяйстве, особенно в Сибири и Зауралье. Можно утверждать, что это была единственная за всю российскую историю успешная модернизация, опиравшаяся на тех, кто мог от нее выиграть [11, С.25].
Прогрессивность реформ Столыпина сломала феодальные ограничения и расчистила путь капиталистическому способу хозяйствования.
Следует признать, что российская власть в своих попытках установления нового социального порядка исторически была в большей степени ориентирована на усиление механизма принуждения и подавления властными методами, чем на либеральные институты управления поведением людей.
Западная цивилизация сделала человека законопослушным, утвердила ценности либеральной культуры, установила приоритет человека перед государством. Как мы выяснили выше, это обусловлено протестантским мировосприятием западного человека, которое в своей основе в качестве главных имеет представления о свободах и правах человека, правовом государстве в целом и вытекающее отсюда понимание личности, отдельного индивида и его «естественных прав», в том числе, право частной собственности. В ходе модернизации элита этих стран стала базисным носителем национальной идентичности.
Сегодня многие из стран, не относящееся к группе G7, встают на путь модернизации своих экономических систем, добавляя к традиционной концепции собственную национальную позицию. В таком случае модернизацию можно рассматривать как порождение не только внешних, но и внутренних факторов, поскольку интеллектуальные силы и политические элиты этих стран пытаются создать благоприятные условия для достижения обществом более высоких стандартов развития с учётом западного опыта.
Страны классического модерна выросли из своего традиционного состояния и развиваются сегодня благодаря естественной социокультурной динамике, тогда как для остальных стран мира модернизация стала ответом на требования общества модерна.
Как показывает исторический опыт, необходимым условием успешной модернизации служит единство социальной, идеологической и культурной мобилизации развивающегося общества. Идея эффективной модернизации принадлежит не только какой-то партии или национальному лидеру, она должна охватывать все слои общества и не оставлять места вариационности взглядов. Модернизации, не подхваченные обществом, не ставшие для него непреходящей ценностью быстро заканчиваются авторитарными контрреформами. Только нашедшие позитивный отклик у людей идеи модернизации образуют стержневой фактор развития общественной культуры.
В подобной ситуации правомерен вопрос - смогут ли своеобразие национальной истории, социо-культурная самобытность стимулировать инновационное обновление общества и экономики или же они будут препятствовать ему.
Мы разделяем точку зрения ряда исследователей, которые считают, что для успешной модернизации общества и осуществления экономических преобразований необходимо формирование особой культуры и осознание новых духовных ценностей как базиса развития духовных отношений. Любое общество, стоящее на пути модернизации сначала воспринимает идеи обновления на концептуальном уровне и только потом находим им практическое воплощение в реальных объектах материального производства. Помимо заимствованных идей модернизации извне часто формируется собственная национальная позиция, которая не умаляет её роли в переустройстве общества в конкретных исторических условиях [3, 4, 12].
Каждая страна идёт своим историческим путём, обусловленным собственным императивом выживания и с учётом своеобразия природных факторов, сложившихся социо-культурных и духовных традиций. Вместе с тем, история, культура и духовные традиции разных народов взаимопроникают друг в друга, исключая возможность полной изоляции особенно на современном этапе развития мирового сообщества.
Таким образом, каждый народ формирует собственную уникальную культуру общества, одновременно являясь отражением мировой истории. Поэтому в исследовании различных аспектов развития конкретной страны, в нашей статье – вопроса социальной модернизации, необходим системный подход, предполагающий изучение внутренних и внешних факторов, определяющих успех реализации модернизационных процессов.
Выбрав путь модернизации, руководство любого государства должно понять, что именно из культуры своей страны должно оставаться неизменным, а что подлежит трансформации с целью создания новой самобытности как способа жизни развивающегося общества.