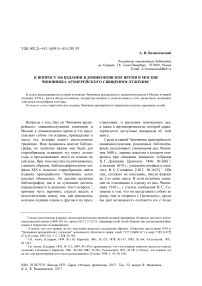К вопросу об издании в дониконовское время в Москве чиновника архиерейского священнослужения
Автор: Вознесенский Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история печатания Чиновника архиерейского священнослужения в Москве в первой половине XVII в., дается обзор источников, литературы вопроса и делается вывод о том, каким было понимание этой книги типографами той поры.
Кириллические издания, чиновник архиерейского священнослужения, церковная служба
Короткий адрес: https://sciup.org/14737581
IDR: 14737581 | УДК: 002.2(=163.1)(091)+
Текст научной статьи К вопросу об издании в дониконовское время в Москве чиновника архиерейского священнослужения
Вопросы о том, был ли Чиновник архиерейского священнослужения напечатан в Москве в дониконовское время и что представляло собою это издание, принадлежат к числу тех, которые имеют многолетнюю традицию. Ими задавались многие библиографы, но особенно важны они были для старообрядцев, искавших эту книгу долгие годы и продолжающих вести ее поиски по сей день. При этом неуспех подпитываемых, главным образом, библиографическими мифами XIX в. попыток старообрядцев найти издание архиерейского Чиновника легко находит объяснение. Он сродни неудачам библиографов, так и не сумевших достичь определенности в решении этого вопроса 1, причину чего, вероятно, следует видеть в несоответствии между тем, как рисовалось искомое издание одним и другим в их пред- ставлениях, и реальным положением дел, а также в противоречивости, которой характеризуются доступные материалы об этой книге.
Среди изданий Чиновника архиерейского священнослужения, рожденных библиографией, заслуживают упоминания два: Чиновник 1600 г., первые известия о котором появились при описании книжного собрания П. Г. Демидова [Демидов, 1846. № 266] 2, и издание 1610 г., указанное впервые в каталоге В. С. Сопикова [1813. № 1625] 3. Оба они, согласно их описанию, имели формат во 2-ю долю листа. И хотя подобное указание по отношению к одному из них, Чиновнику 1610 г., с учетом сообщения В. С. Со-пикова о том, что он представлял собою ко всему еще и «перевод с Греческого», вроде бы дает возможность соотнести его с более
* Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)».
поздним, уже послениконовским, изданием 4, эта атрибуция может рассматриваться лишь как догадка, почти не приближающая нас к пониманию того, какие именно издания упоминались в старых указателях или какого рода ошибки библиографов способствовали их появлению на свет.
Других дониконовских изданий Чиновника святительского прежняя библиография не знала 5, эти же вызывали сомнения еще у В. М. Ундольского 6, отчего, нужно думать, и в сводном каталоге А. С. Зерновой их уже не оказалось. Между тем неоспоримые доказательства того, что выпуск этой книги все-таки был осуществлен в Москве, и как раз еще в дониконовское время, обнаружились в архивных материалах, касающихся деятельности Печатного двора той эпохи. Опись московской типографии, произведенная в 1649 г., зафиксировала там наличие какого-то «Чиновника святителского», содержание которого составляли чины «анти-мисному священию и в начало индикту i воспоминание страшнаго суда и чин пещна-го д е йства» [Белокуров, 1887. С. 21]. Чиновник этот был переплетен в красную кожу и имел золотой обрез. Кроме него, на Печатном дворе тогда хранились еще девять экземпляров того же самого Чиновника в тетрадях, правда, все они оказались «побиты», а два из них еще и «неполны» [Там же. С. 22].
Благодаря упомянутым архивным материалам можно было не только сделать вывод о несомненном существовании донико- новского издания архиерейского Чиновника, но и составить представление о его содержании, однако долгое время этот факт не привлекал к себе внимание исследователей, хотя издания всех перечисленных в Описи чинов были издавна известны библиографам. Уже В. С. Сопиков отмечал свое знакомство с безвыходными Началом освящению Антимисному и Чином молебным, певаемым в начале Нового лета [1813. № 697, 1645], а П. И. Соколов указывал среди книг библиотеки Академии наук не имеющий выходных сведений Чин на освящение Антиминсов [1832. С. 17, № 88]. В дальнейшем число сообщений об экземплярах упоминаемого в архивных документах Чиновника только увеличивалось.
В середине XIX в. И. П. Сахаров описал сборник, выпущенный, по его мнению, в самом конце патриаршества Иосифа (в 1652 г.) 7 и заключавший в себе Чин в начало индикта, Чин в воспоминание страшного суда и Чин исповедания патриархам Московским, – сборник, который он озаглавил «Чины церковные», указав наличие его экземпляров в типографской библиотеке и у Кузьмина [Сахаров, 1849. № 549]. Немногим позже в научный оборот был введен сборник церковных чинов из собрания И. П. Каратаева, причем сведения о нем появлялись в печати дважды, и всякий раз их публикация сопровождалась новой датировкой издания. Самим И. П. Каратаевым время выпуска в свет книги, каждую из частей которой он описал в виде отдельного издания, определялось как 1630 г. [Каратаев, 1861. № 315–318] 8, тогда как в «Отчете Императорской Публичной библиотеки», получившей его собрание, книга была датирована как напечатанная, вероятно, около 1650 г. [Отчет ИПБ…, 1862. С. 30, № 7]. Наконец, через 10 лет после этого стал известен еще один экземпляр Чиновника; он был обнаружен в библиотеке А. И. Хлудова и описан как сборник чинов, выпущенный на рубеже 1639 и 1640 гг. [Попов, 1872. С. 14 (3-го счета), № 137].
При введении в научный оборот хлудов-ского экземпляра книги было высказано предположение, что все четыре составлявшие его статьи, а именно: Начало освящения антиминса, чины в начало индикта, в воспоминание страшного суда и пещного действа, «вышли в одно и то же время, в виде сборника», причем впоследствии с этим согласился и И. П. Каратаев [1883. № 371] 9. К сожалению, других приверженцев эта точка зрения не нашла. Не приняла ее и А. С. Зернова, которая, вероятно, из-за того, что каждая из трех частей сборника имела свою фолиацию, посчитала сборник конволютом и описала его как три отдельных издания, получивших соответственно три разных названия: Чин пещного действа, Чины церковные, куда вошли Чин в начало индикта и Чин в воспоминание страшного суда, и, наконец, Начало освящения антиминса [Зернова, 1958. № 80, 82, 83]. Нужно думать, что в этом А. С. Зернова следовала за тем мнением, которого И. П. Каратаев придерживался поначалу, публикуя первый свой каталог, тем более что все три издания, как и там, имели у нее датировку временем около 1630 г., чему, впрочем, не должно было противоречить также исследование филиграней бумаги, на которой они были напечатаны, если, конечно, оно проводилось 10.
Между тем упоминавшееся уже указание на состав Чиновника архиерейского в документах Приказа книжного печатного дела настоятельно требовало объединения трех изданий в одно. И попытка сделать это была произведена при новом обращении к архивным документам Печатного двора. На необходимость рассматривать описанные А. С. Зерновой отдельные чины как единое издание указала И. В. Поздеева, сначала предположительно, при публикации ею материалов архива [1986. № 49], а затем, с значительно большей уверенностью, при описании еще одного экземпляра сборника, поступившего в библиотеку Московского университета, причем в последнем случае
И. В. Поздеева посчитала необходимым несколько изменить его состав, убрав из сборника Начало освящения антиминса [Позде-ева и др., 2000. № 233] 11.
Более сложным оказался вопрос о времени выхода книги, тем более что в библиографии издание датировалось по-разному, а единственным не вызывавшим сомнений его упоминанием в архивных источниках было то, которое обнаружил С. А. Белокуров в Описи Печатного двора 1649 г. И решение этого вопроса И. В. Поздеевой следует признать весьма своеобразным. Оставив для книги такую же датировку, как и у А. С. Зерновой, т. е. около 1630 г., И. В. По-здеева вместе с тем попыталась связать с изданием некоторые дополнительные архивные материалы, которые также позволяли судить о времени работы над ним. Все они были уже известны, их опубликовал еще А. А. Покровский. Касались они выпуска на Печатном дворе в середине 20-х гг. XVII в. тиражом 30 экземпляров книги, получившей у типографов название «Потреб-ника святительского» 12. При этом сначала И. В. Поздеева предположила, что указанные сведения следует отнести не к этому, а к другому изданию, которое, по ее мнению, было напечатано и полностью разошлось в 1624 г., хотя при этом и могло иметь состав, подобный тому, какой был зафиксирован в Чиновнике архиерейском [Поздеева, 1986. № 49], в дальнейшем пришла к прямому отождествлению Чиновника с упоминаемым Потребником соборным святительским [По-здеева и др., 2000. № 233], но затем опять от него отказалась [Поздеева и др., 2001. С. 274, примеч. 9] 13.
Чем были вызваны колебания И. В. По-здеевой в этом вопросе, можно только догадываться, но ее попытка объединить По-требник и Чиновник в одно издание представляется вполне объяснимой. Вероятно, свою роль здесь сыграло не только то, как определялось назначение этих изданий типографами (а и одно, и другое получили от них наименование «архиерейского», или «святительского»), но и непростая история печатания «Потребника соборного», о которой стало возможно судить после публикации двух документов, прослеживавших судьбу экземпляра книги, доставшегося архиепископу Сибирскому и Тобольскому Макарию [Ромодановская, 1989].
В первом из них, грамоте царя Михаила Федоровича архиепископу Макарию, сообщалось о недобросовестности наборщика книги «Дорофейки Александрова», послужившей причиной того, что уже по выходе Потребника соборного из типографии пришлось заниматься допечаткой пропущенных «наборщиковым воровством» статей и теперь рассылать их с росписью того, в каком порядке их надлежит вставить в книгу. Второй документ представлял собой ответ архиепископа Макария, уведомлявшего государя о получении им 25 февраля 1626 г. двадцати пяти печатных листов из «Потреб-ника», о сверке с тем «Потребником», который был прислан патриархом Филаретом «с митрополичьим сыном боярским с Меркурием Борзово» и доставлен ему 5 января 1626 г., о сходстве листов, обнаруженном при этой сверке 14, и отсылке их обратно в Москву, наконец, о том, что тот «Потреб-ник», который он получил от патриарха в Москве перед отправкой в Сибирь 15, был возвращен им патриарху, согласно его, патриарха, указу.
Таким образом, в обнаруженных документах речь шла о книге, которая была предназначена для архиерейского употреб- ления и, более того, раздавалась патриархом Филаретом архиереям русской церкви 16, о книге, вызывавшей особую заботу церковных властей, о книге, потребовавшей переделки и допечатки, что помогало объяснить, почему известные экземпляры Чиновника получили несколько фолиаций. Вместе с тем документы сообщали не об одном, а о двух изданиях книги, а Чиновник, если считать, что там речь шла об уже упоминавшемся сборнике чинов, был известен ко времени публикации архивных материалов только в одном издании.
Ситуация эта, казалось бы, могла быть прояснена после выхода в свет второго выпуска каталога собрания московских кириллических книг XVI–XVII вв., принадлежащих РГАДА, в котором появились сведения даже не об одном, а сразу о двух новых экземплярах Чиновника архиерейского [Московские кирилловские издания…, 2002. № 4]. Эта находка имела крайне важное значение и прежде всего потому, что обнаруженные экземпляры разительно отличались от тех, которые были известны до этого. Они заключали в себе все те же четыре чи-нопоследования, но при этом книга не была разделена на три части, она имела единую фолиацию. Дополнительно единство частей книги подчеркивалось тем, что в ней велся последовательный счет глав. Более того, каждая глава открывалась заставкой, тогда как в издании, упоминаемом у А. С. Зерновой, заставка была лишь одна, перед чином освящения антиминса.
Еще более важной особенностью ново-найденных экземпляров Чиновника оказалось то, что в них на страницу приходилось, не по 15, а по 16 строк текста 17. Если учесть, что величина полосы набора представляла собой тогда одну из важнейших характеристик издания, то, хотя работа над выпуском книги в свет осуществлялась как раз в ту пору, когда в московской типографской традиции происходила выработка приемов печатания изданий среднего формата, выразившаяся в замене сигнатур фо- лиацией 18, в попытках определить наиболее удобное место для простановки колонцифры 19, в опытах по применению более мелких шрифтов 20, а также в колебаниях при выборе размеров полосы набора 21, указанное различие экземпляров дает возможность с полной уверенностью утверждать, что находка в собрании РГАДА привела к открытию еще одного издания Чиновника архиерейского, имевшего при этом тот же самый состав 22.
Впрочем, открытие второго издания Чиновника только на первый взгляд объясняло, почему в сибирских документах речь шла о двух изданиях книги, помогая устранить единственную, казалось бы, нестыковку, препятствующую тому, чтобы принять предположение, будто Чиновник архиерейский и упомянутый в архиве Потребник соборный святительский представляют собой одно и то же, поскольку внимательное рассмотрение архивных материалов позволяет заметить, что для отказа от подобного отождествления изданий есть куда более существенные основания. Прежде всего, здесь следует указать на то, как именовали книгу сами типографы в процессе ее печатания. По свидетельству И. В. Поздеевой, когда речь заходила об этой книге, ее называли то «Соборник святительский», то «Большой соборник», то «Потребник большой печати святительский» [Поздеева, 1986. № 17], и на слова «большой печати» необходимо обратить самое серьезное внимание. На Печатном дворе так говорили только о книгах большого формата. Между тем оба известных дониконовских издания Чиновника напечатаны форматом в 4-ю долю листа. Если учесть, что в Описи 1649 г. наряду с Чиновником архиерейским 23 упомянут Потребник святительский во 2-ю долю листа [Белокуров, 1887. С. 28], правда, находившийся не на особом хранении 24, а в правильной палате, то указания на большой формат книги, сделанные московскими типографами, не могут рассматриваться как появившиеся вследствие ошибки или недоразумения.
Окончательную ясность в решение этого вопроса, кажется, вносит еще одна деталь, а именно указание себестоимости Потребника святительского, напечатанного тиражом 30 экземпляров. Согласно архивным материалам, она составила 2 рубля 8 алтын 2 деньги, или, может быть, несколько меньше 25, причем на это едва ли оказала влияние малотиражность издания, как это нередко происходит сейчас. Наибольший удельный вес в расходах на издание книги составляли тогда затраты на покупку бумаги и оплата печатания книги в два набора. Поэтому простое сопоставление себестоимости разных изданий тех же 1620-х гг., а один экземпляр Требника 1623 г. (издания в 4-ку, объемом 783 листа) стоил 1 рубль 20 алтын, экземпляр Требника 1625 г. (издания в 2-ку, объемом 524 листа) – 1 рубль 23 алтына 2 деньги [Поздеева, 1986. № 15, 23] 26, показывает, что расходы, указанные в архивных материалах, не могут быть приложимы к изданиям Чиновника архиерейского, которые при их среднем формате заключали в себе одно – 85, другое – 74 листа. С этой точки зрения себестоимость в 2 рубля 8 алтын 2 деньги, скорее, должен был иметь Требник 1624 г., представлявший собой издание большого формата объемом или 734, или 735 листов.
Кажется, это предположение совсем не лишено оснований. И вот почему. При публикации И. В. Поздеевой извлеченных из архива сведений об изданиях Печатного двора Требник 1624 г. оказался единственным из описанных А. С. Зерновой изданий середины 1620-х гг., о котором не сохранилось никаких вообще известий, что не может не показаться странным, если учесть объем книги. При этом в Требнике 1624 г., в отличие от его изданий в 1623 и 1625 гг., имелось довольно большое количество разного рода дополнений, часть из которых вполне могла входить в число статей, известных в качестве своевременно не напечатанных «наборщиковым воровством». Его состав был определенно шире, чем у предшествующего и последующего изданий, имевших в основном одинаковое содержание, что позволяет ожидать в нем наличие в том числе специальных святительских чинов, которые, нужно думать, и должны были стать причиной его определения типографами как Потребника святительского, подобно тому как наличие специальных статей привело в 1639 г. к появлению Требников мирского и иноческого. Наконец, нельзя не обратить внимание на крайнюю редкость экземпляров издания 1624 г. (они есть только в ГИМ и РГБ), которая, вполне возможно, объясняется именно его небольшим тиражом.
По рассмотрении экземпляров Требника 1624 г., находящихся в собрании РГБ 27, исчезают малейшие сомнения в том, что в архиве упомянуто как раз это издание. Книга действительно содержит в себе целый ряд святительских чинов, хотя многие из них появились в ней в виде вставки 28. При этом предназначенность издания архиереям ясно указана в его тексте: в заголовке книги 29 и в выходных сведениях 30. Наблюдения над составом Требника 1624 г. позволяют понять также, почему его называли не только святительским, но и соборным. Конечно же, это было из-за включения в книгу «изложения» Собора 1620 г.
Вместе с тем, если видеть в архивных материалах, относящихся к Потребнику соборному святительскому, указание на Требник 1624 г., возникают вопросы о том, когда же были выпущены два издания архиерейского Чиновника и почему в архиве нет сведений об их печатании. Ответы на эти вопросы, как представляется, позволяет найти рассмотрение собственно изданий книги, а также изучение издательской программы московского Печатного двора. Основным поводом для появления на свет архиерейского Чиновника, нужно думать, стало решение о печатании в Москве в 1623 г. Требника 31, который представлял собой первый опыт выпуска в Москве этой книги. Не случайно типографы были вынуждены озаботиться при этом выбором формата издания и выбором размеров полосы набора, причем сначала они ориентировались на издание Служебника, что было признано затем не вполне правомерным 32.
Наибольшие хлопоты доставило типографам определение состава книги, в который должны были войти чинопоследования, имевшие по преимуществу частный характер, совершавшиеся по случаю и не регламентированные церковным уставом. До этого издания некоторые из них находили себе место в Служебнике 33, однако их набор был крайне узок. Вместе с тем рукописные источники, напротив, давали бесконечное изобилие чинов и молитв. Поэтому при попытке создать особую книгу треб одной из важнейших задач, которую пришлось решать в процессе подготовки этой книги к печати, стало установление ее состава. И здесь, помимо прочего, необходимо было определить, имеет ли смысл тиражировать текст чинов, отличающихся ограниченным употреблением, совершаемых только в случае архиерейского церковнослужения и запрещенных для совершения лицам, не удостоенным высокого сана. Колебания в этом вопросе при издании Требника очевидны, они проявились в том, что в книгу были включены описания отдельных священнодействий, приличных архиерею, но одновременно позволительных священнику, нередко с указанием того, что надлежит тому делать, когда совершение чина возложено на него 34, однако чинов, относящихся к числу исключительно святительских, в нем нет.
Несколько подобных чинов как раз и составили содержание Чиновника, дав ему значение особой, архиерейской, книги. Но в подборе этих чинов, по-видимому, также сказалось влияние Требника. Только этим можно объяснить то, что в книгу попали лишь чинопоследования, имеющие частный характер 35, а святительское служение литургии осталось вне ее, и нужно думать, из-за того, что тексты литургий являлись теперь главной составной частью Служебника. Примечательно, что наряду с четырьмя чинами, попавшими в архиерейский Чиновник, были напечатаны еще несколько чинов, а именно: Чин исповедания царям и великим князем, Чин исповедания патриархам Московским и Чин поставления епископа, и они также получили самостоятельное распространение.
Связь архиерейского Чиновника и трех упомянутых отдельных чинов с Требником и привела к тому, что в архиве нет сведений об их печатании. Нужно думать, что необходимые на это средства отпускались по смете Требника, в качестве дополнения которого архиерейский Чиновник и издания чинов как раз и могли первоначально рассматриваться. Не случайно Чин исповедания царям и великим князем, Чин исповедания патриархам Московским и Чин поставления епископа также удостаивались упоминания в документах лишь тогда, когда требовалось переплетать их экземпляры 36. По-види-мому, эти три чина, как и Чиновник архиерейский, имея ограниченное употребление, не только были напечатаны небольшим тиражом, но и выпускались в оборот постепенно, по мере надобности.
Связь с печатанием Требника, кажется, позволяет объяснить и появление не одного, а двух изданий Чиновника, если, конечно первое из них, – то, которое имеет сразу три фолиации, – можно рассматривать в качестве особого издания. Вероятнее всего, именно благодаря отказу от введения текста «действ» в состав Требника и в связи с невозможностью включения их в другие богослужебные книги типографы были вынуждены подумать о том, чтобы оформить эти добавления к уставной службе 37 в виде отдельного издания. При этом они устранили и недостаток первого выпуска святительских чинов, каким следует считать неправомерно уменьшенную полосу набора, и выпустили издание уже не с 15, а, как и Требник, с 16 строками на странице. Это издание и сохраняет по сей день библиотека РГАДА.
Во второй половине XVII в. представления о том, каким должно быть содержание Чиновника архиерейского священнослужения, разительно переменились, от донико-новских времен в его составе сохранился лишь Чин освящения антиминсов, который в издании 1668 г. был дополнен к тому же чином освящения церкви малого свяще-ния 38. Центральное место в новых изданиях заняло изложение правил служения архиереем литургии, которое пришло на смену чинопоследованиям «действ», постепенно выходивших из употребления, а затем, после того как на смену патриаршему правлению в русской церкви пришло синодальное, и вовсе упраздненных [Никольский, 1885. С. 105–106, 174, 219; Красносельцев, 1889. С. 29, 58–59].
ON THE PRE-NIKONIAN PUBLICATION OF THE BOOK OF THE OFFICIAL EPISCOPAL MINISTRY (CHINOVNIK ARKHIEREJSKOGO SVIASHCHENNOSLUZHENIJA) IN MOSCOW