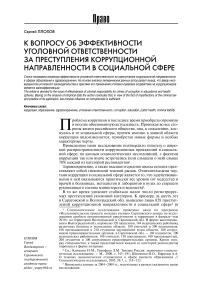К вопросу об эффективности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в социальной сфере
Автор: Плохов Сергей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам эффективности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в сферах образования и здравоохранения. На основе анализа эмпирических данных автор делает вывод, что ввиду несовершенства уголовного законодательства и практики его применения уголовно-правовое воздействие на коррупционеров является малоэффективным.
Коррупция, образование, здравоохранение, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165574
IDR: 170165574
Текст научной статьи К вопросу об эффективности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в социальной сфере
П роблема коррупции в последнее время приобрела огромную и вполне обоснованную актуальность. Проникая во все стороны жизни российского общества, она, к сожалению, коснулась и ее социальной сферы, причем именно в данной области коррупция видоизменяется, приобретая новые формы и особые характерные черты.
Проведенное нами исследование подтвердило гипотезу о широкой распространенности коррупционных проявлений в социальной сфере: по данным социологических исследований, с фактами коррупции так или иначе встречались (или слышали о ней) свыше 70% каждой из категорий респондентов1.
Здравоохранение, а также высшая и средняя школа сегодня представляют собой гигантский теневой рынок. Отличительными чертами коррупции в социальной сфере является то, что задействованными в ней оказываются практически все уровни (от медсестер и врачей в больницах, методистов и лаборантов в вузах до старшего руководящего состава министерств и ведомств)2.
В то же время удивляет стабильно малое число регистрируемых преступлений указанной категории. К примеру, за шесть лет в Саратовской и Волгоградской обл. выявлено лишь 828 преступ лений корр упционной направленности в социальной сфере3 (в
среднем 69 преступлений на территории региона в год), тогда как большинство из нас постоянно слышит о неучтенных в официальной статистике фактах коррупции либо непосредственно сталкивается с ней в повседневной жизни при обращении за медицинской помощью, в школах и вузах.
Сложившаяся ситуация связана с возникающими на практике проблемами реализации уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности рассматриваемой категории.
Так, уголовно-правовой борьбе с указанным явлением препятствуют возникающие у правоохранительных органов сложности в документировании факта передачи денежных средств.
Во-первых, преступление коррупционной направленности в социальной сфере крайне сложно выявить. Объясняется это тем, что коррупционные отношения в сферах образования и здравоохранения выгодны обеим сторонам – как взяткодателю, так и взяткополучателю.
К примеру, проведенное автором исследование показало, что причинами вступления учащихся школ и студентов в коррупционные отношения с преподавателями являются нежелание тратить время на учебу (около 40% опрошенных), в то время как для пациентов проще оплатить медицинские услуги «в карман» врачу, а не в кассу лечебного учреждения, поскольку это заинтересует медицинского работника в хорошем отношении к пациенту и обеспечит более качественное лечение (77% опрошенных в Саратовской обл.), кроме того, это «удобнее, быстрее, не нужно стоять в очереди» (43% опрошенных в Волгоградской обл.).
Нежелание делать «теневые» отношения достоянием третьих лиц демонстрирует и тот факт, что из опрошенных автором свыше 1 800 респондентов, большая часть которых сталкивалась с коррупцией, в правоохранительные органы обратился лишь один человек.
Сами же сотрудники органов право-охраны при опросе указали, что основной трудностью их работы по выявлению подобных преступлений является получение информации о совершенном (готовящемся) коррупционном преступлении, поскольку в таких случаях, как правило, обе стороны получают определенную выгоду и заинтересованы в сохранении неформальных отношений в тайне (свыше 90% опрошенных).
Более того, как показывают результаты различных исследований, у значительной части населения страны сложился стереотип коррупции как этически приемлемой формы разрешения личных проблем. Люди не только перестали осуждать «бытовую» коррупцию, но и считают ее общественно-полезной1.
Согласно выводам собственного исследования автора, сами потенциальные участники коррупционных отношений обычно не воспринимают в качестве взятки вознаграждение, которое взяткополучатель не требует. Дорогая коробка конфет, коллекционное спиртное, букет цветов и хорошая книга, по мнению респондентов, взяткой не являются. Не воспринимается в качестве взятки и деньги в сумме менее 500 руб. в Волгоградской обл. и 1 000 руб. в Саратовской.
Даже если сотрудникам правоохранительных органов станет известно о противоправной деятельности преподавателей или медицинских работников, привлечение их к ответственности осложняется необходимостью надлежащего документирования преступления.
Проведенным опросом установлено, что большинство саратовских (58%) и значительная часть волгоградских (42%) экспертов считают, что доказать совершение лицом коррупционного преступления в случае, если по уголовному делу не проводились оперативно-розыскные мероприятия, невозможно.
Объясняется данный факт не чем иным как сложностью доказывания коррупционного состава преступления, особенно предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, ввиду наличия ряда оценочных признаков и «громоздкости» диспозиций указанных норм.
При изучении материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, установлено, что в 100% слу- чаев дача и получение взятки фиксируются в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (наблюдение, оперативный эксперимент) с использованием аудиовизуальных технических средств. При этом не единичны случаи ненадлежащего документирования оперативно-розыскных мероприятий в силу недостаточной подготовленности работника либо ввиду случая (подвели технические средства, взяткополучатель успел избавиться от предмета взятки).
Осложняет борьбу с коррупцией и то, что зачастую взятки даются врачам и преподавателям за выполнение именно тех функций, которые относятся к сугубо профессиональным и не образуют состава должностного преступления, а также лицам, не являющимся должностными (например, медсестре). Таким образом, от целого спектра общественно-опасных деяний государство и его граждане оказываются незащищенными.
Несмотря на и без того небольшое число зарегистрированных преступлений обозначенной категории, анализом установлено, что не все из них представляют собой уголовные дела (значительное число преступлений, предусмотренных ст. 292, 159 и 160 УК РФ, поставлено на учет путем вынесения решений об отказе от возбуждения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), при этом лишь около 73% уголовных дел (с учетом соединенных) направлены в суд.
За последние 6 лет судами Волгоградской обл. рассмотрено 93 уголовных дела анализируемой категории в отношении 98 лиц, из них 61% уголовных дел рассмотрены за последние 2 года (60 уголовных дел в отношении 64 лиц). Средний показатель числа осужденных лиц по отношению к возбужденным уголовным делам по региону составил 25%.
По поступившим в суд уголовным делам в отношении 8% лиц дела прекращены по нереабилитирующим основаниям (за деятельным раскаянием и истечением сроков давности), в отношении 67% лиц судом назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ (условно), 16% коррупционеров осуждены к наказанию в виде штрафа и лишь 9% лиц – к реальному лишению свободы.
Аналогичные показатели наблюдаются и по Саратовскому региону.
В литературе имеются данные, что в Ставропольском крае в 2008 г. из 122 человек, осужденных за коррупционные преступления, к реальному лишению свободы приговорены лишь 14, в 2007 г. – лишь 7 из 681, а из научных публикаций2 видно, что это общероссийская проблема.
Несмотря на то, что федеральным законом № 97-ФЗ от 04.05.2011 за взяточничество и коммерческий подкуп введены кратные штрафы, данная новелла вызывает больше вопросов, чем дает ответов, в связи с чем обоснованно критикуется3.
Таким образом, видно, что фактически реализация уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в социальной сфере малоэффективна ввиду установленных законодателем и практикой барьеров на стадии выявления и документирования преступлений рассматриваемой категории, а также воздействия на виновных лиц санкций, не отвечающих установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ целям уголовного наказания.
Решением обозначенной проблемы должен явиться комплекс мер по выработке психологической нетерпимости населения к «бытовой» коррупции в социальной сфере, повышению доверия со стороны населения к правоохранительным органам (общая превенция), а также смене курса уголовной политики государства в части закрепления уголовной ответственности медицинских работников, преподавателей и иных «публичных лиц», не являющихся должностными с точки зрения Уголовного кодекса РФ, за совершение преступлений коррупционной направленности и установление оптимальных санкций за данные деяния, отвечающих целям наказания (частная превенция).