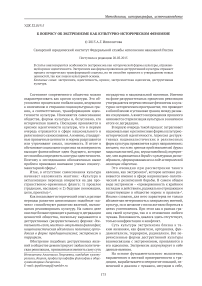К вопросу об экстремизме как культурно-историческом феномене
Автор: Ипполитова Анастасия Георгиевна
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 3-1 т.17, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности экстремизма как исторической формы культуры, отражающей кризис идентичности. Экстремизм как форма проявления деструктивной культуры отражает процесс исторических трансформаций социума, но не способен привести к утверждению новых ценностей, так как лишен культурной основы.
Экстремизм, идентичность, кризис, экстремистская идеология, деструктивная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/148203748
IDR: 148203748 | УДК: 32.019.5
Текст научной статьи К вопросу об экстремизме как культурно-историческом феномене
Состояние современного общества можно охарактеризовать как кризис культуры. Это обусловлено процессами глобализации, ведущими к изменению и стиранию социокультурных границ, а соответственно, трансформациям идентичности культуры. Изменяются самосознание общества, формы культуры и, безусловно, его историческая память. Последнее проявляется в кризисе идентичности культуры, что в первую очередь отражается в сфере национального и религиозного самосознания. А именно, стандартные привычные ценности и нормы разрушаются или утрачивают смысл, значимость. В итоге в обстановке социального кризиса на поверхность выходят фантазийные идеи будущего, которые не способны определить контуры идентичности. Поэтому к исследованию обозначенных выше проблем приковано внимание ученых социогу-манитарной сферы1.
Итак, в отсутствие самосознания культура начинает напоминать маятник: «Культура в актуализации перехода опирается на два пространственно-временных фланга: 1) прошлое (традиции, наследие) и 2) будущее (инновации, цели, проекты)»2.
Как показывает исторический опыт, в разные периоды развития цивилизации подобные «качели» способствуют развитию явлений, пытающихся реанимировать культуру. На самом деле они еще больше приводят к распаду и деградации ценностей общества, поскольку выражаются в деструктивных (разрушительных) формах: деятельность сект, мистико-оккультная философия; националистическая идеология и политика; ортодоксия в форме традиционализма; экстремизм и терроризм.
Обострение подобных деструктивных явлений в обществе демонстрирует любая политиче ская революция, призванная изменить саму суть Ипполитова Анастасия Георгиевна, кандидат культурологии, доцент, профессор кафедры философии и общегуманитарных дисциплин.
государства и национальной политики. Именно на фоне разрушительных процессов революции утверждаются перечисленные феномены в культурно-историческом пространстве, что приводит к обособлению и установке границ между разными социумами. А вместо возрождения прошлого начинается стерилизация культуры и в конечном итоге ее деградация.
В первую очередь такой процесс затрагивает национальные и религиозные формы культурноисторической идентичности. Агрессия деструктивных националистических и религиозных форм культуры проявляется в двух направлениях: внешнее, то есть против представителей других национальностей, рас, вероисповеданий; внутреннее, что выражается в борьбе с культурным разнообразием, сформировавшимся в ходе исторической эволюции общества .
Это очевидно при рассмотрении такого явления, как экстремизм3, которое активно развивается именно в сфере национально-политической и религиозной борьбы. В самом общем виде экстремизм – «приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила»4. Иными словами, для него характерна не только абсолютная нетерпимость к плюрализму мнений, культур, но и желание с ними активно бороться в целях уничтожения. При этом как в рамках границ своей культуры, так и в отношении любого чужака. Возможность диалога здесь отсутствует, только конфронтация и конфликт.
Суть культуры экстремизма близка к таким явлениям, как фанатизм, ортодоксия, фундаментализм, терроризм, радикализм. Все перечисленные формы деструктивной культуры взаимосвязаны с экстремизмом, проявляются в его идеологии. Экстремизм аккумулирует в себе данные явления.
На основе фундаментального мышления, выраженного в жесткой приверженности к традиции, вырабатывается неприятие новаций, изменений и диалога с чужаком, несущим в себе, как представляется носителям экстремистской идеологии, потенциальную угрозу утраты идентичности. Террористические действия отражают агрессивную сторону экстремизма как популярного метода борьбы. При этом борьбы бескомпромиссной, призванной устрашать и уничтожать противника. Перемирие как форма социального согласия здесь исключается.
Отметим, что как во внутреннем обособлении, жёсткости, так и в открытой агрессии выражается главный культурный смысл экстремизма – стремление к самоуничтожению. Ведь экстремистская культура приводит к полной деградации системы ценностей, а замещаемая ее радикально-деструктивная мировоззренческая картина мира оказывается жизнеспособной только в кризисной ситуации.
Однако, как свидетельствует исторический опыт, экстремизм в качестве духовной магистрали быстро исчерпывает себя, на поверхности социума остаются только его механизмы, мешающие адекватному развитию конкретного народа. В качестве иллюстрации – ряд современных исламских революций разрушил существующие государства, но новых стабильных систем на их месте не появилось. Наоборот, произошло усугубление кризиса, возникли очаги постоянной нестабильности (Ливия, Сирия и пр.).
Вообще следует отметить, что внутри экстремистской действительности отсутствует целостность и согласие, а выработать общую идеологию на основе ортодоксии невозможно, ведь исключена возможность диалога. Это очевидно на примере локальных конфликтов. Например, арабо-израильский конфликт, историческая эволюция которого демонстрирует, что состояние стагнации и относительного мирного сосуществования кратковременно, быстро сменяется очередным витком эскалации насилия и обоюдной конфронтации сторон во всех социальных сферах, особенно в политической и религиозной, тесно переплетающихся между собой.
Необходимо понимать, что экстремизм – система мировоззрения, которая формируется через идеологические методы, что позволяет создать в отдельных социальных группах деструктивное мировоззрение и мотивацию на совершение преступных действий. Например, террористический акт, громкое политическое убийство и пр.
Следует заметить, что экстремистские действия, подтолкнувшие человека к подобным поступкам, могут выражаться в агитационной работе, распространении специализированной литературы, митингах и пр. Такую причинно-обусловленную взаимосвязь экстремизма с терроризмом необходимо понимать для определения психологической мотивации поступков террориста. Сама по себе громкая акция насилия ли- шена смысла, но в ней нуждается деструктивная культура. Экстремизм даёт обоснование для актов насилия и уничтожения, создает смысловую содержательную сторону такого рода действий. Например, деятельность эсеров была нацелена на борьбу с существующим монархическим строем и утверждение так называемого идеала принципиально нового социального устройства. Или: современные мусульманские радикалы борются за духовно-нравственные ценности, возврат к высоким идеалам.
Итак, экстремизм не существует без особой идеологии с радикальным мировоззрением и одновременно высоко-духовным, как представляется его «адептам», наполнением.
По мнению А.М. Кадиевой, для обществ, «исповедующих» экстремистскую идеологию, характерны следующие особенности5: идеи социального, расового или национального неравенства, доведенные до крайней степени; примитивное деление на своих и чужих; идеал социального устройства, где за счет и в ущерб интересам всех других социальных групп реализованы интересы радикалов; утопия в сочетании с ценностями консерватизма; ориентация на действия прямого физического насилия, уничтожения противников, доминирование нормы вседозволенности по отношению к политическим врагам .
Данные признаки очевидны при рассмотрении радикальных политических движений на основе фашистского мировоззрения. Например, идея превосходства здесь выражена в образе врага, в отношении которого необходимо проявлять агрессивность. Через ущемление какого-либо народа осуществляется достижение собственных социально-экономических интересов.
Необходимо подчеркнуть, что главная черта экстремистской идеологии – мифологизирован-ность6. Мифология необходима для создания искусственной реальности, которая доказывает ценности экстремизма. Здесь показателен пример национализма как идеологии, манифестации которого разворачиваются именно в сфере мифологии, что утверждается в ряде авторитетных научных концепций (Э. Геллнер7, Э. Смит, В. Тишков8 и др.9). Миф формирует и развивает националистические представления, а мифологические сюжеты становятся социокультурными манифестациями10. При этом миф здесь – «мистифицированная (искаженная, приукрашенная) информация о социально-экономической и политической ситуации в обществе»11.
Национализм использует механизмы мифотворчества для создания исключительной культуры, базирующейся на ксенофобии (боязни врага, чужака). Цель мифа националиста – ограждение отдельной нации от остального мира12. Поэтому мифы носят характер искажения культуры, а «любимые» эпохи и герои наполняются агрессивным содержанием. Подобные мистификации и стано- вятся одним из основных методов продвижения шовинистических идей, поиска врага, с которым необходимо столкновение. В подтверждение можно вспомнить исторический опыт Третьего Рейха, где с помощью псевдонаучной концепции арийской расы, а также нагнетания ксенофобии через актуализацию ненависти к евреям, цыганам, славянам и пр. создавалась псевдоистория.
Заметим, доминирующая роль мифа в данном контексте обусловлена тем, что он существует на уровне коллективной памяти. Наше подсознание, состоящее из множества архетипов, бывает занято, как справедливо отмечал К.-Г. Юнг, «множеством временно угасших образов, впечатлений, мыслей, которые продолжают влиять на наше сознательное мышление, хотя и являются потерянным»13. Следовательно, мифы о национальных героях, о прошлом народа живут в каждом из нас. Но на формирование националистических идеалов влияние оказывает существующий в душе общества архетип «Тени», который активизируется в эпохи социальных потрясений. Под давлением общего кризиса и пробуждается темная сторона человеческой натуры, что позволяет национализму найти лазейку, нарушить границу культуры. Антигерои превращаются в образец подражания. Мифы националистов всегда просты, доходчивы и понятны каждому14. Кроме того, националистические мифы, с точки зрения Э. Смита, стандартизированы и повторяются у разных народов.
Но возникает вопрос: если мифологизированная идеология экстремизма, основанная на лишенном основы мировоззрении, разрушительна и губительна для чужих и отечественной культуры, почему в обществе возникает тяга к ней? Здесь можно выделить следующую группу факторов: социально-экономические и политические; культурно-религиозные; психологические. При этом мы не можем говорить о наличии одной причины, а имеем дело всегда с совокупностью проблем, возникающих в обществе. Это можно выразить в понятии «кризис», который носит системный характер и зачастую имеет историческую основу. Например:
-
1. Арабо-израильский конфликт, где радикальные настроения ортодоксальных евреев и мусульман подкреплены состоянием перманентной войны, укорененной в общественном сознании. Ведь противостояние евреев и мусульман уже является историческим опытом. Отождествление друг друга с врагами для них естественно. Так учат, таковы культурные установки. Евреи и палестинцы существуют в условиях развития постоянной ксенофобии, идеологического неприятия другого, а подкрепляется подобная культурно-психологическая ненависть реальными экономико-политическими причинами, обусловленными ограниченностью территориальных и природных ресурсов;
-
2. Современная ситуация вокруг Украины получила бурное развитие вокруг фашистских сил в условиях всеохватывающего политикоэкономического кризиса, постоянной нестабильности, рожденной ситуацией отсутствия четкой вертикали власти. Но, к сожалению, фашистская субкультура в западных регионах Украины имеет историческую традицию.
Итак, данные примеры показывают, что ценности и идеи экстремизма вряд ли имеют шанс для запуска своих механизмов в стабильном обществе, лишенном историко-культурных предпосылок, выраженных, например, в образах исторически сложившихся врагов, или движимые местью и пр.
Особую роль эмоциональной силы, отключающей механизмы рациональной оценки ситуации в экстремизме, играет ксенофобия (боязнь чужака, врага). Это – катализатор агрессии. Ведь ксенофобия как форма страха носит абсолютизированный характер, усвоенный с детства вместе с «установками этноцентризма и предубеждения ко всему иноэтническому»15. Ксенофобия рассматривается как глобальный социокультурный феномен, основа экстремистского мифотворчества. При этом она очень динамична, т.е. процесс формирования фобий бесконечен. Воскресают старые, перерождаются забытые, возникают новые. В любом случае они существуют как объективная реальность. Как считает Г. Померанц, данное качество психики народа бывает пассивным и активным16.
К пассивному проявлению ксенофобии можно отнести осознание негативного отношения к какому-либо народу без видимой на то причины, что позволяет контролировать себя. Соответственно, понятно и содержание активной ксенофобии: яркая самореализация, выраженная в агрессивных действиях (от пропаганды и разжигания конфликта до актов насилия, включая терроризм).
Ксенофобия становится толчком, в комплексе с другими социокультурными причинами, к развитию конфликтных взаимоотношений и экстремизма в целом.
Однако, даже если мы говорим об экстремистской деятельности в масштабах государственной политики, следует учитывать, что «заражению» вирусами такой деструктивной культуры подвержены определенные социальные слои и группы, даже в условиях негативных взаимоотношений с другими народами.
Популярность экстремизма и его идей характерна для следующих социальных групп: традиционалисты и фундаменталисты (в первую очередь в религиозной сфере); социальные низы, где ярко выражена культура девиации (алкоголизм, наркомания и пр.).
Для последних характерна маргинальность. Маргиналы становятся особенно питательной почвой, поскольку не обладают собственной четкой картиной мира, устоявшимся набором ценностных ориентаций. Иными словами, у них отсутствует культурное «Я», а также историческая преемственность, в том числе на уровне памяти поколений. Зато социальные проблемы (нищета, безработица, отсутствие образования и пр.) делают их агрессивными, что необходимо экстремизму для саморазвития. Агрессия – движущая сила на фоне деструктивной идеологии.
Следует заметить, что иногда экстремизм становится элементом государственной идеологии. Это характерно для тоталитарных режимов, где агрессия проявляется как во внутренней, так и во внешней политике. Например, сегодня ваххабизм как ортодоксальное течение, склонное к экстремистским методам достижения целей, является основой государственной системы Саудовской Аравии. Или: в недавнем прошлом в Афганистане господствовал режим радикального движения «Талибан», где реализовывались способы подавления человека внутри государства и одновременно велась крайне агрессивная и негативная внешняя политика.
Наконец, еще одна важная особенность экстремистской культуры как исторического явления – непредсказуемость. Мы не знаем наверняка, где и когда нанесут свой удар, но вынуждены опасаться такой «войны». Социальные страхи укрепляются с помощью негативных этнических стереотипов. В связи с ситуацией вокруг терроризма как воплощения фанатизма Й. Ратцингер пишет: «…нужно ли считать религию целительной и спасительной силой, или в таком случае это архаичная и опасная сила, создающая мнимые универсалистские построения и тем поощряющая нетерпимость и тер-роризм?»17. Именно непредсказуемость делает опасным экстремистскую культуру для самой себя, подвергая постоянным трансформациям и дроблениям, усиливая деструктивные тенденции саморазрушения и усложняя узлы конфликтов.
Таким образом, экстремизм – деструктивное явление культуры, отражающее системный кризис в обществе, обнажающее сложные исторические трансформации системного характера в области самосознания культуры. Экстремизм проявляется в разных социальных сферах, поэтому для него характерно видовое разнообразие, а также формы реализации в обществе. Так, в политике экстремизм может быть выражен в националистической идеологии, а в религии – фундаменталисты и террористы. Опора экстремизма – деструктивные социальные слои с размытой идентичностью. Однако отсутствие культурного самосознания провоцирует развитие экстремистской культуры на общегосударственном уровне и часто приводит к смене исторического пути народа. Хотя стать магистралью нового развития экстремизм не способен в силу отсутствия у него предметной картины мира.
Список литературы К вопросу об экстремизме как культурно-историческом феномене
- Бондаренко О.В., Леонова М.С. Религиозная идентичность: экспликация понятий. Гуманитарные и социальные науки. 2010 №6. С.285-291
- Зеленков М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект). Воронеж, 2007
- Ивановская О.В. Кризис и сакрализация идентичности в глобализирующемся мире//Вестник Волгоградского государственного университета Серия 7. Философия. 2011 №1. С.38-44
- Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности развития = Culture in Transition: Imperatives of Transformation and Possibilities of Development. Самара, 2011
- Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве (Психология и социология религии). 2-е изд., М., 2012
- Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 2005
- Семиотика кризиса: императивы выживания, обновления и развития. Междунар. науч. конф. (2010; Самара). Материалы междунар. науч. конф. «Семиотика кризиса: императивы выживания, обновления и развития», 19-20 мая 2010. Самара, 2010.
- Бидова Б.Б. Социально-экономические и политические причины религиозного экстремизма. Религиозно-политический экстремизм и пути его преодоления//Государство и право: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г.Чита, март 2013 г.). Чита, 2013. С.55-59. . URL: http://www.moluch.ru (дата обращения: 20.10.2014)
- Кадиева А.М. Религиозный экстремизм: сущность, причины, пути преодоления. Автореф. дисс. … канд. филос. наук. Махачкала, 2009.
- Смирнов М.А. Общественная безопасность и противодействие религиозному экстремизму. . URL: http://pravmisl.ru (дата обращения: 1.11.2014)
- Нуруллаев А.А. Религиозно-политический экстремизм . URL: http://sbiblio.com (дата обращения: 1.11.2014).
- Ипполитова А.Г. Семантика национализма в культурном пространстве современной России (монография). Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
- Тишков В.А. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма)//Этнографическое обозрение. 1998. №5. С.3-26.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001
- Джунусов М. Мы самые, самые…//Жизнь национальностей. 1993. №5-6. С.48-51
- Нации и национализм. М, 2002; Померанц Г. Выход из транса. М., 1995
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998
- Кравченко И.И. Политическая мифология: вечность и современность//Вопросы философии. 1999. №1. С.3-18.
- Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993
- К.-Г. Юнг о современных мифах: сб. тр. М., 1994
- Каган М.С. «Мифы» и реалии национального единства (к вопросу об основах национального самосознания в иноэтнической среде)//Кунсткамера. СПб., 1997. Вып.11. С.35-41
- Кравченко И.И. Политическая мифология: вечность и современность//Вопросы философии. 1999. №1. С.3-18.
- Яценко Н.Е. Словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999. С.239.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001
- Шнирельман В.А. Этногенез и идентичность: националистические мифологии в современной России//Этнографическое обозрение. 2003. №4. С.3-14.
- Фишбейн Н.В. К.-Г. Юнг об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека//Социально-политич. журнал (социально-гуманитарное знание). М., 1998. №6. С.244.
- Тавадов Г.В. Этнология: словарь-справочник. М., 1998. С.178-179.
- Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М, 2006. С.89.