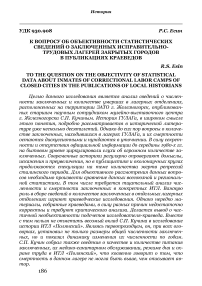К вопросу об объективности статистических сведений о заключенных исправительно-трудовых лагерей закрытых городов в публикациях краеведов
Автор: Есин Р.С.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (7), 2018 года.
Бесплатный доступ
Целью данного исследования является анализ сведений о числен-ности заключенных и количестве умерших в лагерных отделениях, расположенных на территории ЗАТО г. Железногорск, опубликован-ных старшим научным сотрудником музейно-выставочного центра г. Железногорска С.П. Кучиным. История ГУЛАГа, в широком смысле этого понятия, подробно рассматривается в исторической литера-туре уже несколько десятилетий. Однако до сих пор вопросы о количе-стве заключенных, находившихся в лагерях ГУЛАГа, и их смертности остаются дискуссионными и нуждаются в уточнении. В силу секрет-ности и отсутствия официальной информации до середины 1980-х гг. на бытовом уровне циркулировали слухи об огромном количестве за-ключенных. Современные историки регулярно опровергают домыслы, искажения и преувеличения, но в публицистике и околонаучных кругах продолжаются спекуляции на теме количества жертв репрессий сталинского периода. Для объективного рассмотрения данных вопро-сов необходимо произвести сравнение данных всесоюзной и региональ-ной статистики. В том числе требуется тщательный анализ чис-ленности и смертности заключенных в конкретных ИТЛ. Важную роль в сборе сведений о количестве заключенных в отдельных лагерных отделениях играют краеведческие исследования. Однако нередко ма-териалы, собранные краеведами, в силу разных причин недостаточно корректны и требуют критического анализа. Делается вывод о час-тичной необъективности подсчетов исследователя-краеведа. Вместе с тем нельзя не отметить весомый вклад С.П. Кучина в исследование истории ИТЛ «Полянский». Являясь первопроходцем, он, при всех ого-ворках, установил не только размеры общей численности заключен-ных, но и показал динамику изменения их численности по годам. С.П. Кучин собрал также сведения о качестве и количестве питания заключенных, их медико-санитарном обслуживании, режиме дня и ох-ране труда в ИТЛ «Полянский», что косвенно говорит о том, что смертность в данном лагере не могла быть выше, чем описывает ав-тор.
Заключенные, гулаг, итл "полянский", за-крытые атомные города, зато железногорск
Короткий адрес: https://sciup.org/140224477
IDR: 140224477 | УДК: 930.908
Текст научной статьи К вопросу об объективности статистических сведений о заключенных исправительно-трудовых лагерей закрытых городов в публикациях краеведов
Уже с 1920-х гг., параллельно со становлением системы лагерей в СССР, начинают появляться работы о советских заключенных. Зачастую публикуемые в них сведения не были объективными и в полной мере научными. Причинами этого являлись ограниченность источниковой базы, идеологические установки и т. п.
В работах сталинского периода конца 1920-х – 1930-х гг. можно почерпнуть отдельные сведения, позволяющие составить некоторое представление о численности заключенных ГУЛАГа. Однако необходимо учитывать ряд обстоятельств, влиявших на первоисточники. Так, заместитель начальника ГУЛАГа С. Фирин в своем докладе описывает структуру лагерей ОГПУ по типам, упоминает систему приписок. В работе «Подрывная работа разведок капиталистических стран и их троцкисткобухаринской агентуры» генерального прокурора СССР А.Я. Вышинского представлены статистические сведения об использовании принудительного труда заключенных в Советском Союзе и масштабах гулаговского хозяйства [1].
Советская историография второй половины 1950-х – 1980-х гг. отличается от предыдущего периода. В постсталинский период она ограничивается официальными установками XX съезда. В период «оттепели» появляются работы Р.А. Медведева, Ю.А. Полякова и других авторов, использующих концепцию «культа личности» и модель деформаций социализма. Во время «застоя» наступает затишье в обсуждении лагерной темы в СССР [2].
На рубеже 1980–1990-х гг. тема ГУЛАГа становится одной из самых дискуссионных и привлекает все больше внимания отечественных историков. В это время становятся доступными архивные материалы, а вместе с этим появляются и научные труды. Некоторые из них носили скорее характер статистических и документальных публикаций. В таких работах содержались данные о численности, структуре спецпоселений и лагерных комплексов, категориальном составе заключенных, как, например, в работе А.Г. Дугина. На основании большого статистического материала, опубликованного в серии статей, В.Н. Земсков предпринял попытку выяснить общий численный состав лагерного контингента ГУЛАГа за весь период его существования [3].
В этот период стали распространяться явно завышенные сведения об огромной численности и смертности заключенных в колониях и лагерях Советского Союза. Так, в публикации P.A. Медведева в «Московских новостях» (ноябрь 1988 г.) о статистике жертв сталинизма указано, что с 1927 по 1953 г. было репрессировано около 40 млн чел. [4]. В 1990 г. были опубликованы воспоминания О.Г. Шатуновской, где она ссылается на документ КГБ СССР и отмечает, что: «...C 1 января 1935 г. по 22 июня 1941 г. было арестовано 19 млн 840 тыс. “врагов народа”. Из них 7 млн было расстреляно. Большинство остальных погибло в лагерях» [5].
В 2000-е г. продолжилась публикация рассекреченных архивных документов [6]. Исследователи постепенно выявляли все больше сведений, опровергавших данные, приводившиеся Р. и Ж. Медведевыми, А.И. Солженицыным и подобными им авторами, о численности узников ГУЛАГа и их смертности [7].
Во второе десятилетие 2000-х гг. работа ученых-историков по уточнению численности и смертности заключенных в ГУЛАГе продолжилась, и данная тема все еще остается дискуссионной.
И всесоюзные, и региональные сведения о заключенных все еще нуждаются в уточнении. Кроме того, необходимо установление численности и смертности заключенных «на местах».
Большой вклад в исследование данной проблемы вносят краеведы, в их числе старший научный сотрудник музейно-выставочного центра г. Железногорска С.П. Кучин. Его книга «Полянский ИТЛ (ГУЛАГ уголовный)» вышла в 1999 г. В предисловии заявлена цель дать «правдивую историю заключенных ИТЛ «Полянский», размещавшегося на территории города Железногорска (Красноярска-26) в 1950-1964 годах». Свою книгу автор называет документально-историческим повествованием, не расшифровывая это определение [8]. Таким образом, фактически С.П. Кучин не относил свое «документально-историческое повествование» к категории научных работ.
В начале книги «Полянский ИТЛ (ГУЛАГ уголовный)» автор приводит ряд выдержек из статей, описывающих негативные условия содержания и смертность заключенных в этом исправительно-трудовом лагере. Так, Яков Ладыженский описывает, что число заключенных, строивших ИТЛ «Полянский», было невероятным. Но записок от работавших на этих объектах и спасшихся ему не попадалось, хотя из других лагерей он их встречал [9, с. 10]. Аналогичные взгляды у Ольги Лихти-ной [10, с. 10]. Также известный диссидент Жорес Медведев писал из Лондона о нераскрытой тайне судеб миллионов и о том, что атомный ГУЛАГ унес намного больше жизней, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки [11, с. 10]. С.П. Кучин далее пишет, что эти и другие, подобные статьи он посчитал прямым вызовом ему, проработавшему семь лет с заключенными на строительстве Горно-химического комбината в Красноярске-26, и решил рассказать правду, поработав в архивах ГАРФ и Красноярского краевого управления МВД, встретившись со многими бывшими заключенными и работниками ИТЛ «Полянский» [12, с. 11].
С.П. Кучин опирается на воспоминания как сотрудников, так и заключенных лагерных отделений. В основном воспоминания положительные и идут в разрез со статьями, приводимыми в начале книги в таких вопросах, как условия жизни в ИТЛ «Полянский». В книге имеется одно, негативное воспоминание, Ольги Лихтиной, упоминавшееся выше. Далее по тексту приводятся в основном положительные воспоминания о жизни в исправительно-трудовом лагере, в письмах С.П. Кучину от заключенного ИТЛ «Полянский», попросившего указать его в книге под псевдонимом Аркадий Егоров [13, с. 201]. Также упоминаются и благодарственные письма начальнику отряда Сергееву от родственников заключенных.
Кроме того, в книге указаны положительные воспоминания тринадцати работников ИТЛ «Полянский» и Управления строительства железных рудников (п/я 9), в которых вопросы смертности и численности заключенных, как и в других воспоминаниях, имеющихся в книге, не упоминаются.
С.П. Кучин пишет: «По имеющимся у меня адресам бывших заключенных я написал некоторым из них письма. Ответили, в силу различных причин, не все. Понятно, не каждому хочется ворошить свое прошлое, связанное с отбыванием наказания в местах лишения свободы» [14, с. 192]. Таким образом, автор указывает на причину приведенных им преимущественно положительных воспоминаний в книге и отсутствие в них информации по интересующим нас вопросам.
В ходе сбора материалов для книги С.П. Кучин использовал отдельные разрозненные документы из архивов. При этом присутствует определенная некорректность в подсчетах, на что обращает внимание Г.А. Реут. Так, рассчитывая показатель смертности в Полянском ИТЛ С.П. Кучин опирается на таблицу, в которой приводит абсолютные данные о ежегодной численности заключенных и ежегодной смертности. С 1950 по 1964 г. на 1 января каждого года в таблице указаны округленные цифры за 1952, 1957, 1964 гг., однако в сумме у автора получается количество заключенных – 80 483 чел. за все время существования ИТЛ. Через две страницы снова приводится таблица «Количество умерших заключенных, причина их смерти и места захоронения по годам». Снова, несмотря на округленные цифры за 1952, 1957, 1962, 1963, 1964 гг., указано точное количество заключенных и процент умерших [15, с. 28].
Очевидно, что не корректно рассчитывать точную численность заключенных только через суммирование данных на момент 1 января каждого года. При этом не учитывается динамика изменения численности заключенных в течение года. Так, в таблице, приведенной в главе «Же-лезлаг», указано, что численность заключенных на 1 января 1956 г. составляла 7 177 человек [16, с. 60]. Перед этой таблицей в книге, в справке о дислокации Полянлага, указывается, что на 01.05.1956 г. численность заключенных ИТЛ «Полянский» была ниже и составила 6 746 чел. [17, с. 57]. А после, в уже упомянутой таблице, численность заключенных снова возрастает и составляет на 1 января 1957 г. цифру около 8 000 чел.
То есть, если принять эти подсчеты, то уверенно можно сказать, что заключенных не могло быть меньше.
Приводимые данные на 1 января не всегда точны. С.П Кучин указывает, что за 1952, 1957, 1964 гг. нет конкретных сведений о численности заключенных ИТЛ «Полянский». Рядом с данными этих лет стоит пометка «ок.», т. е. читается «около 8 000 человек», а не конкретно 8 000 [18, с. 60]. Таким образом, сложение численности заключенных, приведенное С.П. Кучиным на 1 января каждого года существования ИТЛ «Полянский», не позволяет получить точную итоговую цифру.
Проверить расчеты исследователя не представляется возможным ввиду отсутствия ссылок на архивные источники, использованные для установления данных о смертности и количестве заключенных [19, с. 29].
Используя метод аналогии, можно найти подтверждение предположения С.П. Кучина о том, что смертность заключенных в закрытых атомных городах СССР была ниже, чем в среднем по ГУЛАГу.
Например, в ряде работ В.Н. Кузнецова освещена история ИТЛ, секретных атомных строек Урала, где использовался труд заключенных. По данным на 1949 г., численность заключенных на трех строительствах атомных объектов (заводы № 817, 813 и 814) составляла 29 300 чел., тогда как общая численность заключенных ИТЛ и ИТК ГУЛАГ МВД СССР в этом же 1949 г. составляла 2 356 385 чел. [20, с. 94, 118].
Кузнецов также приходит к выводу о том, что слухи о массовой смертности заключенных и о том, что закрытые города построены на «костях заключенных» значительно преувеличены. По сведениям В.Н. Кузнецова, в Красногорском ИТЛ, функционировавшем с 1947 по 1960 г. и задействованном на строительстве заводов № 814 и 71 в г. Лесном, за указанное время умерло 432 человека, что составило 0,5 % от всего содержащегося в лагере контингента [21, с. 116]. За время же существования ИТЛ «Полянский», по подсчетам С.П. Кучина, умерло по разным причинам 436 заключенных с 1950 по 1964 г. [22, с. 209–246].
Необходимо отметить, что В.Н. Кузнецов частично опирается на данные С.П. Кучина, сравнивая смертность заключенных в ИТЛ с гражданским населением СССР. Смертность заключенных была меньше, и в 1953 г. на каждую 1000 человек умирало 8,4 заключенных; в 1954 г. – 6,7 заключенных; а в 1955 г. – 5,3 [23, с. 116].
В основной работе «Атомный проект за колючей проволокой», посвященной исследованию системы принудительного труда на секретных строительствах в закрытых городах, В.Н. Кузнецов приводит сравнительную таблицу смертности заключенных [24, с. 184]. При этом он сравнивает данные Красногорского и Полянского ИТЛ, информацию по которому В.Н. Кузнецов берет из книги «Полянский ИТЛ (ГУЛАГ уголовный)» [25, с. 181].
На основание вышеизложенного можно констатировать, что проверить сведения, предоставленные С.П. Кучиным о численности и смертности заключенных в Полянском ИТЛ, из-за отсутствия ссылок на архивные документы невозможно. А с учетом односторонности и идеологической предвзятости сложно оценить достоверность исследования в целом.
Тем не менее, стоит заметить, что краеведом была проделана большая работа по сбору фактического материала, воспоминаний и выявлению архивных документов об ИТЛ «Полянский».
Поскольку С.П. Кучин не являлся профессиональным историком и не владел методологией научного исследования, то ожидать от краеведа скрупулезного анализа источников и сопоставления статистики не приходится. Собственно говоря, «документально-историческое повествование», в первую очередь, представляет собой попытку дать отпор антисоветской публицистике с опорой на архивные документы и свидетельства очевидцев.
Вместе с тем нельзя не отметить весомый вклад С.П. Кучина в исследование истории ИТЛ «Полянский». Являясь первопроходцем, он при всех оговорках установил не только размеры общей численности заключенных, но и показал динамику изменения их численности по годам. С.П. Кучин собрал также сведения о качестве и количестве питания заключенных, их медико-санитарном обслуживании, режиме дня и охране труда в ИТЛ «Полянский», что косвенно говорит о том, что смертность в данном лагере не могла быть выше, чем описывает автор.
Список литературы К вопросу об объективности статистических сведений о заключенных исправительно-трудовых лагерей закрытых городов в публикациях краеведов
- Тимохова Е.А. ГУЛАГ в СССР: основные тенденции отечественной и зарубежной историографии//Вестн. гуманитарного института ТГУ. -2009. -№ 2. -С. 6-27.
- Земсков В.Н. Сквозь дебри спекуляций, извращений и мистифика-ций//Мир и политика. -2009. -№ 6 (33). -С. 89-105.
- Тимохова Е.А. Указ. соч.
- Земсков В.Н. Указ. соч.
- Кучин С.П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГ уголовный). -Железногорск, 1999.
- Там же. -С. 10.
- Там же. -С. 11.
- Там же. -С. 201.
- Кучин С.П. Указ. соч. -С. 192.
- Реут Г.А. Закрытые административно-территориальные образова-ния Сибири: социализм за колючей проволокой/Краснояр. гос. аг-рар. ун-т. -Красноярск, 2012. -350 с.
- Кучин С.П. Указ. соч. -С. 60.
- Там же. -С. 57.
- Там же. -С. 60.
- Реут Г.А. Указ. соч. -С. 29.
- Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территори-альные образования Урала. Ч. 1. Советский период. -Екатеринбург, 2015. -С. 94, 118.
- Там же. -С. 116.
- Кучин С.П. Указ. соч. -С. 209-246.
- Кузнецов В.Н. Указ. соч. -С. 116.
- Кузнецов В.Н. Атомный проект за колючей проволокой. -Екате-ринбург, 2004. -С. 184.
- Кучин С.П. Указ. соч.-С. 181.