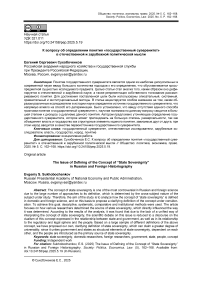К вопросу об определении понятия «государственный суверенитет» в отечественной и зарубежной политической мысли
Автор: Сухобоченков Е.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Понятие государственного суверенитета является одним из наиболее дискуссионных в современной науке ввиду большого количества подходов к его определению, что обуславливается кросс-предметной сущностью исследуемого предмета. Целью статьи стал анализ того, каким образом оно дефинируется в отечественной и зарубежной науке, а также репрезентация собственного толкования рассматриваемого понятия. Для достижения поставленной цели были использованы описательный, системный, сравнительный и институциональный методы. В статье акцентируется особое внимание на том, каким об-разом различные исследователи в истории науки определяли источник государственного суверенитета, что напрямую влияло на способ его детерминации. Было установлено, что ввиду отсутствия единого способа трактовки понятия «государственный суверенитет», научная полемика по данному вопросу сводится в большей степени к дискурсу о дуализме данного понятия. Автором предложено уточняющее определение государственного суверенитета, которое может претендовать на большую степень универсальности, так как объединяет власть и государство как структурные элементы единого понятия, зависимые друг от друга, при этом народ вводится в качестве первоисточника государственного суверенитета.
Государственный суверенитет, отечественные исследователи, зарубежные ис-следователи, власть, государство, народ, понятие
Короткий адрес: https://sciup.org/149147931
IDR: 149147931 | УДК: 321.011 | DOI: 10.24158/pep.2025.5.19
Текст научной статьи К вопросу об определении понятия «государственный суверенитет» в отечественной и зарубежной политической мысли
Введение . С появлением первых национальных государств было положено начало формирования и эволюции одного из самых базовых институтов – государственного суверенитета. Не имея его страна не может считаться полноценной и в принципе считаться государственным образованием. По своей сути, десуверенизированное государство есть лишь территория, которая управляется некими внешними либо внутренними политическими силами, ограничивающими функционирование государственной власти.
Обозначенное понятие представляло интерес для исследования учеными начиная с XVII в. и с течением времени, развитием государства как института, его понимание постоянно изменялось и трансформировалось. Как правило, содержательные преобразования соответствовали условиям времени, в котором ученые анализировали институт государственного суверенитета. Например, если Ж. Боден подразумевал под ним абсолютную власть монарха (Боден, 1999), то уже в конце XIX – начале XX вв., вместе с развитием демократических институтов, учеными активно продвигалась концепция суверенитета народа, который является первоисточником для независимости государства.
Сегодня же следует говорить о коренной трансформации понятия «государственный суверенитет» в рамках глобализации и цифровизации. Первый из указанных процессов выводит его на наднациональный уровень, который становится новой нормальностью, а следовательно, традиционные подходы к его определению теряют актуальность; иначе большую часть современных государств можно признать несуверенными. В свою очередь, процесс цифровизации ведет к переходу данного понятия еще и в виртуальный мир, где обеспечивать его защиту становится такой же важной задачей, как и в реальности.
В соответствии со сказанным понятие «государственный суверенитет» представляется нам актуальным объектом для изучения.
Мы ставили себе цель проанализировать, какие существуют подходы к определению понятия «государственный суверенитет» в отечественной и зарубежной научной среде, и на основе полученных данных сформулировать уточняющее, универсальное его определение.
Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы: описательный – для репрезентации подходов к трактовке термина «государственный суверенитет»; сравнительный – для сопоставления различных позиций ученых, определению их сильных и слабых сторон; системный – для изучения государственного суверенитета посредством рассмотрения его элементов. Вместе с системным методом использовался и институциональный, так как в рамках настоящего исследования мы прибегали к анализу функционирования отдельных институтов государства.
Основная часть . В изучении вопроса об определении понятия «государственный суверенитет» существует серьезная проблема, выраженная в том, его содержание находится на пересечении сразу нескольких наук: политологии, социологии, правоведения и т. д. Данный факт обуславливает существование огромного массива данных по теории государственного суверенитета в целом и определении его сущности в частности. С одной стороны, такое положение дел способствует дальнейшему развитию различных концепций государственного суверенитета, с другой – формирует проблему единообразия в вопросах о его сущности и понимании. Кроме того, как было сказано выше, современный мир настолько динамичен, что объект нашего исследования находится в постоянном изменении, а это затрудняет формирование единых подходов к определению государственного суверенитета и его трактовке.
В целом, в отечественной теории государственного суверенитета сформировалось два основных подхода к его пониманию – государство- и властецентричный. Рассмотрим некоторые из известных в современной науке дефиниций.
Сторонники первого подхода утверждают, что суверенитет выражается через государство.
М.Н. Марченко утверждал, что он является одним из образующих и фундаментальных признаков любого национального государства (Марченко, 2003).
Г.И. Тункин отмечал, что государственный суверенитет есть ничто иное, как присущее государству доминирование на собственной территории и независимость в международных отно-шениях1.
М.И. Байтин говорил о государстве как о монополии на власть, а государственный суверенитет называл его специфическим свойством, имеющим политико-юридический характер (Байтин, 1972).
Отечественные исследователи Е.Г. Пономарева и Г.А. Рудов указывали, что государственный суверенитет выражается в системе внутриполитических и внешнеполитических потенций государства, которые направлены на обеспечение его развития и сопротивление любому давлению извне (Пономарева, Рудов, 2016).
А.С. Строева отмечала, что суверенитет является способностью государства контролировать собственную территорию, осуществлять в отношении нее и проживающего на ней населения верховенство власти и обеспечивать его независимость в международных отношениях (Строева, 2014).
А.А. Чобан определял суверенитет через дуальность содержания понятия: как верховенство государства, выраженное во внутренних отношениях, и одновременно как независимость во внешней сфере, которая отражается в отношениях государства с другими странами1.
А.А. Кокошин ввел понятие так называемого «реального суверенитета», понимая под ним возможность государства практическим, а не только декларативным путем, самостоятельно (суверенно) осуществлять собственную внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать международные договоры, участвовать или не участвовать в стратегическом партнерстве с другими странами (Кокошин, 2006).
Н.И. Грачев предлагал понимать государственный суверенитет как наиболее важную политическую и правовую характеристику национального государства. По мнению ученого, он становится краеугольным камнем всего государства, выступая как его базовый элемент, признак, цель организованного общества. Суверенитет есть сущность государства (Грачев, 2022).
В поддержку государственной сущности суверенитета высказывался и И.Д. Левин, приводя в пример правительства в изгнании, которые, с точки зрения права, номинально могут считаться властью, хотя в практическом смысле они теряют суверенитет, значит, власть не может считаться носителем суверенитета. Интересно, что ученый указывает, что данное понятие в целом нельзя рассматривать как чисто юридическое. Он апеллирует к тому, что носителем суверенитета, с точки зрения политики, выступает господствующий класс, а с нормативно-правовой точки зрения суверенитет выражается в совокупности высших органов государственной власти (Левин, 2003).
По мнению В.С. Шевцова, безосновательно проводить равенство между государственной властью и политическим суверенитетом, государственный суверенитет становится, по сути, чисто юридическим феноменом (Шевцов, 1979).
Исходя из своих убеждений оба ученых приводят свои определения государственного суверенитета. Так, И.Д. Левин считает, что под таковым следует понимать полновластие государства на всей его территории при полной независимости от других государств (Левин, 2003). В свою очередь, В.С. Шевцов рассматривает государственный суверенитет через власть, говоря о верховенстве и независимости как о главных свойствах государственной власти, посредством чего выражается ее политико-правовая сущность как во внутренней, так и во внешней политике (Шевцов, 1979).
В.В. Горюнов трактует государственный суверенитет как некий юридический конструкт, который включает в себя сущностные и содержательные проявления центральной власти в госу-дарстве2.
А.Б. Венгеров утверждает, что государственный суверенитет в своей сущности заключается в верховенстве государственной власти и ее независимости от любой иной власти. В суверенном государстве правительство обладает правами на ведение внутренней и внешней политики, действуя от имени и в угоду интересов общества, сформированного на территории данного государства3.
Однако самым распространенным остается подход отождествления государственного суверенитета с государственной властью. Суверенитет характеризуется не как социальный институт, а как свойство, присущее государственной власти. То есть уровень суверенитета государства определяется тем, насколько независима его власть. Суверенная власть действует в рамках национальных интересов государства и своего народа. Политика властей направлена на развитие страны, укрепление ее экономико-финансового могущества, развития социально-политического сектора, развитие внешнеполитического сотрудничества с другими странами и т. д. Если же центральная власть находится под полным влиянием неких внешних или внутренних сил, то она всегда будет действовать в их интересах, а значит, потеряет свою суверенность, так как национальные интересы государства отойдут на второй план. Государственный суверенитет в таком случае также будет ограничен, поскольку государство будет управляться не национальной властью, избранной народом, а некой политической силой, которая стремится к достижению собственных интересов, как правило, экономического толка (Евстафьев, Межевич, 2022).
Подобный подход характерен для советской политической школы.
Я.М. Магазинер отмечал, что в государстве нет власти выше, чем государственная, правовой авторитет которой становится выше любой другой власти, а ее решения обладают максимальной правовой силой. Государственная власть является в полном понимании верховной властью, которая именуется суверенной1.
Понятие суверенитета как выражение верховной государственной власти, не ограниченной ни внутренними, ни внешними факторами, также можно найти и у И.П. Трайнина (Трайнин, 1938).
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин утверждали, что суверенитет государства есть свойство государственной власти, сущность которого заключается в исполнении своих непосредственных функций самостоятельно и независимо от властей других государств2.
Э.Л. Кузьмин определял государственный суверенитет как характеристику сущности власти и ее могущества (Кузьмин, 2006).
-
В. Дорогин трактовал государственный суверенитет как свойство власти господствующего класса, в силу которого она способна самостоятельно и независимо осуществлять руководящие функции (Дорогин, 1948).
Г.Ф. Шершеневич также характеризовал суверенитет через государственную власть, которая должна быть независимой, обладать верховенством на территории государства, быть неограниченной и неделимой3.
Вышеизложенное доказывает, что власть и суверенитет неразрывно связаны друг с другом, но все же в отечественной научной среде ведутся споры о том, является ли суверенитет свойством государства или же его власти, а может, и собственно государственной властью. То есть, определяет ли государство власть или власть – государство, так как н суверенное государство способно продуцировать зависимую власть, но в то же время и десуверенизированная власть способна формировать лишь несамостоятельное государство.
Теперь рассмотрим, как ведется изучение сущности государственного суверенитета в зарубежной науке.
Основоположник теории суверенитета Ж. Боден определял ключевое ее понятие как высшую власть монарха (суверена) в рамках подчиненных ему территорий (Боден, 1999). Таким образом, он признавал власть, а не государство источником суверенитета (Силина, 2021). Отчасти это было обусловлено тем, что ученый жил в эпоху, когда национальные государства еще не были сформированы, а территориальные образования объединялись только властью монарха, который и обеспечивал их целостность и независимость.
В более поздний период времени, в конце XIX в. – XX в., ученые стремились подтвердить примат государственного суверенитета. Именно поэтому одним из краеугольных камней в данном вопросе становится проблема соотношения государства и права. Она стала причиной разделения зарубежных политико-правовых теорий на два направления: с акцентом на суверенитете права или государства (Евстафьев, Межевич, 2022).
Апологеты суверенитета права рассматривают государство как один из правовых инструментов, что ведет к исключению из анализа таких важных элементов для любого государства, как сила и принуждение, которые обеспечивают легитимность власти на конкретной территории. То есть в данных теориях полностью исчезает само понятие государственного суверенитета, а ему на смену приходит понятия правового суверенитета, в котором нормативно-правовая база определяет независимость государства (Катков, 2019).
Сторонники же второго направления рассматривали государство как первоисточник суверенитета. Государственный суверенитет есть возможность противопоставлять государство праву. То есть он является категорией, доминантной по отношению к категории права. Он дается государству не в рамках неких законов, а является его естественным свойством (Мамедов, 2012).
Л. Дюги утверждал, что внутри государства существует множество социальных групп, которые обладают определенной долей самостоятельности перед государством. При этом оно само выступает одной из таких групп, которая выражена властью, а точнее группой людей, ее осуществляющих. Отсюда следует, что государственный суверенитет необходимо трактовать как суверенитет отдельных индивидов, обладающих властными полномочиями (Duguit, 1948).
Французский ученый К. де Мальбер проводил знак равенства между государством и нацией, тем самым он утверждал, что понятия государственный и национальный суверенитет являются неделимыми. Это суверенитет нации, которая является в государстве единственным носителем верховной власти, а значит, и суверенитета (Malberg, 1985).
-
С. Краснер считал, что суверенитет обозначает автономность и независимость государства от других стран, а нисколько не верховную власть, так как она может быть организована по-разному, например, в виде федерации, конфедерации или унитарного строя (Krasner, 1999).
Г. Еллинек определял государственный суверенитет как способность государства к правовому самоопределению, а суверенная власть есть аппарат управления, который не имеет над собой никакой иной настройки, являясь тем самым высшей и независимой властью в государстве (Еллинек, 2004).
-
К. Иглтон писал о частичной независимости, говоря о суверенитете как о сфере относительной внешней независимости и исключительной юрисдикции, закрепленной за государством по согласию от сообщества и ограниченной этим самым сообществом (Eagleton, 1957).
Также существует подход, в рамках которого считается, что суверенитет не имеет конкретных характерных черт, напротив, его сущность составляет деятельность национальных государств и международной системы. Поскольку они постоянно претерпевают изменения, то и суверенитет также не является статичным образованием.
В поддержку данного подхода выступал Г. Шермерс, который считал, что суверенитет имеет множество нестабильных свойств, и предполагал, что в будущем он перейдет на наднациональный уровень, и государства будут управляться мировым сообществом (Шермерс, 1980).
Обобщая различные вышеописанные подходы к определению понятия «государственный суверенитет» в зарубежной и отечественной науке, можно подтвердить наличие проблемы отсутствия универсального определения рассматриваемого концепта, которое могло бы дать понимание его сущности. На наш взгляд, государственный суверенитет – это комплексный и сложный институт национального государства, главной функциональной задачей которого является поддержание независимости государства и власти от внешнего и внутреннего влияния в процессе управления территорией, на которой оно расположено.
Главным выразителем государственного суверенитета выступает власть, его гарантом является государство как правовой и управленческий институт, а также общество как носитель первоначального суверенитета. Предметом же государственного суверенитета выступает внутренняя и внешняя политика государства, которую имплементирует власть.
В заключение можно сказать, что в науке продолжается диспут вокруг дуалистичной природы государственного суверенитета, выраженной в соотношении власти и государства, что порождает вопрос об определении первичности одного из данных элементов (Акимова, 2022; Грачев, 2022; Грибунов, Степанова, 2023; Давыдов, 2024; Катков, 2019; Мамедов, 2012 и др.). Отдельным вопросом становится также проблема соотношения народного и государственного суверенитета, их функционирования в демократических странах.
На наш взгляд, первичным в данной системе является народ, который отдает свой суверенитет на уровень государства, таким образом он из народного трансформируется в государственный, а реализует его власть. Поэтому власть и государство одновременно выступают держателями суверенитета, что формирует его систему (включая общество). Если из данной системы выпадет один из элементов, государство начинает терять свой суверенитет. Без сильного государства, равно как и без сильной власти или же монолитного общества, государственный суверенитет будет постоянно находиться под угрозой ограничения.